Доброе Мировое Зло (Миф)
Пишет Томас antoin
Многим это покажется странным, но изучение военного дела XVI-XVII века — это, по сути, довольно молодое направление в истории. Конечно, писали по этой теме достаточно и в XIX, и в первой половине XX века, но большинство книг и статей оставались поверхностными. Казалось бы — не период, а сказка, столько великих полководцев, харизматичных кондотьеров и прочих ярких личностей! А армии какие: вот вам неистовые швейцарцы с флагами кантонов, вот расфранчённые ландскнехты, вот грозные линии испанской пехоты, а ещё есть стойкие шведы, хвастливые французы и неудержимые гусары Речи Посполитой... Так вот по сути дальше этой внешней эстетики особенно не шли, плюс следовали старой моде, считая, что вот сейчас есть настоящая стратегия и тактика, а раньше были какие-то хаотичные рубки («бой распадался на поединки отдельных рыцарей»™). Положение дел изменилось только после 1955 года.
Многим это покажется странным, но изучение военного дела XVI-XVII века — это, по сути, довольно молодое направление в истории. Конечно, писали по этой теме достаточно и в XIX, и в первой половине XX века, но большинство книг и статей оставались поверхностными. Казалось бы — не период, а сказка, столько великих полководцев, харизматичных кондотьеров и прочих ярких личностей! А армии какие: вот вам неистовые швейцарцы с флагами кантонов, вот расфранчённые ландскнехты, вот грозные линии испанской пехоты, а ещё есть стойкие шведы, хвастливые французы и неудержимые гусары Речи Посполитой... Так вот по сути дальше этой внешней эстетики особенно не шли, плюс следовали старой моде, считая, что вот сейчас есть настоящая стратегия и тактика, а раньше были какие-то хаотичные рубки («бой распадался на поединки отдельных рыцарей»™). Положение дел изменилось только после 1955 года.
Почему именно 1955? А потому, что именно в этот год профессор Майкл Робертс перебрался в университет в Белфасте и на «иннаугурационной лекции» заговорил о «военной революции» (имеется в виду термин «military revolution», который на самом деле правильнее переводить как «революция в военном деле», но хочется-то короче»), причём не революции вообще, а конкретно о том, что происходило в XVI-XVII веках в мире любителей повонзацца. Обычно такие лекции забывали на следующий день, но этой повезло, она фактически породила новое направление в военной истории. В лекции Робертс датировал революцию периодом 1560-1660 годами (то есть, появление на поле боя огнестрела — это фигня, а настоящая революция произошла потом) и выделил четыре её аспекта. читать дальше
Во-первых, он сказал, что именно в то время произошло много изменений в тактике, которые по отдельности были не слишком значительны, но в сумме дали настоящую революцию на поле боя. В итоге, по его словам, армии Европы стремительно отказались от огромных квадратов пикинёров, стали строиться линиями, стрелять залпами, кавалерия внезапно опять начала атаковать галопом и с холодным оружием. В свою очередь, такая тактика привела к изменениям в логистике, вызвала потребность в специально подготовленных и дисциплинированных солдатах, из-за чего экономически выгодно стало поддерживать регулярную армию, а не распускать её и собирать опять по мере необходимости. Виновником этих изменений Робертс назвал лично Морица Оранского и всю голландскую армию в целом.
Во-вторых, военная революция для Робертса означала и революцию в стратегии. Дисциплинированные и обученные солдаты, говорил он, сделали возможными более амбициозные планы, в том числе одновременное ведение кампании несколькими скоординированными армиями. Полководцы в свою очередь стали чаще искать решающее сражение, не боясь, что неопытные войска испугаются и побегут. Этот аспект революции по Робертсу реализовал в первую очередь Густав II Адольф.
В-третьих, произошло увеличение масштаба военных действий, т.е. армии выросли количественно на порядок. Причину этого Робертс видел в том, что возникла описанная выше возможность вести кампанию сразу несколькими армиями. В-четвёртых, первые три аспекта военной революции привели к увеличению влияния войны на общество: стало больше разрушений, войны стали дороже и потребовали развитого административного аппарата, перемалывали больше людских ресурсов и т.д.
Кроме этой лекции Робертс отметился, по сути, только работами, посвящёнными Густаву II Адольфу, поэтому неслучайно, что именно шведского короля профессор считал главным революционером. Сегодня, естественно, наука сильно продвинулась, и многие тезисы Робертса уже не воспринимаются на веру. Книги его про Густава Адольфа и вовсе оказались неверными по большей части — трудно найти то, что Густав и правда изобрёл, а не откуда-то скопировал. Главное, что Робертс выступил в роли провокатора — он высказал гипотезы, которые не были основаны на глубоком анализе затронутой темы, а являлись поверхностным впечатлением, но много кто ринулся копать глубже. В конце концов, раньше вообще сходили с рук даже фразы вроде высказанной Чарльзом Оманом — «Шестнадцатый век представляет собой самый скучный период европейской военной истории». Это сегодня стало очевидно, что Оман капитально сел в лужу. Хотя, люди XVI века не особенно были рады жить в интересные времена, недаром жаловались, что то, что два года назад считалось в военном деле очень новаторским и даже модным, теперь оказывается совершенно устаревшим и неэффективным, потому что чуть ли не каждый день что-то придумывают, и «приходится очень быстро бежать, чтобы оставаться на месте».
Главным идеологом понятия военной революции сегодня считается друг и ученик Робертса Джефри Паркер, опирающийся на большее количество материала. Больше всего Паркер знаменит программной книгой о военной революции (чьи рамки он раздвинул до 1500-1800) и книгами, которые познакомили англоязычную публику с испанской армией Золотого века (точнее, ту небольшую часть публики, которая почему-то захотела почитать об испанцах не только обидные выдумки, остальные сделали вид, что не заметили).
Что же говорит Паркер по поводу тезисов Робертса? Во-первых, он называет неудачным выбор 1560 года как года начала военной революции. Собственно, с этим трудно не согласиться. Паркер видит ещё в Италии XV века истоки большинства описанных Робертсом революционных изменений стратегии и тактики: и профессиональные постоянные армии, и упорядоченную комплектацию их личным составом, и деление солдат на небольшие подразделения одинакового размера с одинаковым вооружением, и даже размещение в специальных казармах. В части стратегии и маневров Паркер тоже весьма уважает кондотьеров и не считает, будто до Густава Адольфа полководческая мысль спала молодецким сном.
Во-вторых, Паркер согласен с тем, что Мориц и Вильям-Луи Оранские уменьшали размер тактических единиц, увеличивали количество офицеров и процент стрелков и применяли гибкую тактику с упором на огнестрельное оружие, но только голландцы это не изобретали, а невозбранно копировали у испанцев. Испанская армия на тот момент бесспорно была лучшей и самой современной, куда ни посмотри: хоть на тактику, хоть на внутреннее устройство, хоть на организацию снабжения, хоть на медицину. Соответственно, у неё перенимали опыт все, кто оказывался в состоянии длительной войны. Новаторскими Мориц и Густав казались больше потому, что восстанавливались после сокрушительных поражений своих предшественников, многое делали с нуля и потому отовсюду брали лучшее. Действительно новым Паркер почему-то упрямо считает то, что Мориц придумал технику контрмарша (это когда в результате различных перестроений шеренги стреляют по очереди, компенсируя долгую перезарядку) и приказал сделать учебник с картинками для обучения пикинёров, аркебузиров и мушкетёров.
В-третьих, Паркер много внимания уделяет фортификационному ответу на мощь пушек - trace italienne. С точки зрения Паркера, именно эта новая система коренным образом изменила стратегию и стала причиной увеличения армий: он считал что а) потребовалось больше укреплённых пунктов снабжать гарнизонами, б) увеличилась протяжённость оборонительных линий и пришлось сгонять под стены больше осаждающих, в) для защиты от армии, прибывшей на поддержку осаждённых, осаждающим требовалась ещё одна, мобильная армия и протяжённые циркумвалационные линии. Ещё Паркер связывает увеличение численности армий с тем, что выросла роль пехоты, а пехоты можно набирать на сколько денег хватит, в отличие от ограниченного разными факторами пула рыцарей. Плюс правительства получили возможность упорядоченно рекрутировать и снабжать огромные массы вояк, обеспечивать их и вспомогательный персонал едой, ночлегом, одеждой и оружием. Единственное, что по мнению Паркера стало задерживать рост армий Ренессанса — это нехватка денег у королей.
В-четвёртых, Паркер связывает изменение конструкций государственной власти в то время тоже с военной революцией, то есть, переход от феодальной (сеньориальной) монархии к абсолютной — это исключительно для того, чтобы воевать получше.
В-пятых, Паркер придаёт военной революции глобальное значение, поскольку считает, что только благодаря огнестрельному оружию, новой тактике и новым кораблям европейская цивилизация стала доминировать в мире (в итоге одна половина критиков ругает его за чрезмерную политкорректность и желание каяться за европоцентризм, а другая -- наоборот, за европоцентристский шовинизм и презрение военных достижений других цивилизаций; примерно так же его одни ругают за испанофилию, а другие за испанофобию).
Паркер, в свою очередь, тоже периодически подвергается критике, на которую отвечает с разной степенью убедительности. Дело в том, что он, по сути — многостаночник, и кроме истории Испании и противостояния с Голландией Паркер мало куда влезал с необходимой по сегодняшним меркам глубиной (например, его книга про тридцатилетнюю войну — это типичная не слишком толстая «обзорка»). В итоге выяснилось, что и его тезисы не всегда выдерживают натиск учёных, которые специально рыли информацию на каком-то узком направлении.
Если критиковать его концепцию военной революции в целом, то, например, Томас Баркер резонно удивился, что же это за революция такая, которая продолжалась три столетия? И правда, Паркер расширил рамки до 1500-1800 (фактически — 1450-1800), а всё равно называет происходившие тогда изменения революционными, хотя практически ничто не возникало в военном ремесле внезапно. Даже огнестрельное оружие далеко не сразу после своего появления стало оказывать заметное влияние на ход сражений — не будет надёжных и дальнобойных мушкетов без предшествующих им гуситских «пукалок». Ещё Баркер отметил, что Паркер в своём главном труде хочет делать довольно глобальные выводы (например, про распространение влияния европейцев на другие цивилизации), но при этом фокусируется только на военном деле, забывая о прогрессе экономики, науки, техники, культуры, демографии и т.д. Последствия очевидны.
Джон Хейл показал, что вовсе не военная революция стала причиной появления нового типа государства — скорее наоборот, это изменения характера государственной власти в XVI-XVII веках влияли на военное дело.
Джон Линн не оставил камня на камне от выдвинутых Паркером причин роста численности армий: скорее всего дело вовсе не в стратегии или тактике, а просто в увеличении людских и финансовых ресурсов государств.
Берт Холл и Келли ДеФриз обвинили Паркера в технологическом детерминизме из-за того, что Паркер всю военную революцию обусловил по сути огнестрельным оружием. Это им напоминает устаревшую догму что якобы порох взорвал феодальное общество и создал централизованные государства. Поэтому Паркер практически игнорирует роль пики, приписывая все победы только аркебузам и мушкетам, хотя пики сыграли большую роль в противостоянии конницы с пехотой. При этом в технологии и науке того времени Паркер мало разбирается, а потому технологические изменения у него выступают в роли «чёрного ящика», объясняя всё, что он не может объяснить иначе. Холл, ДеФриз и много кто ещё критикуют Паркера и за то, что он игнорирует огромное количество свидетельств успешной стрельбы залпами и контрмарша задолго до 1594 года и Морица Оранского. Критикуют за стремление подгонять факты под теорию: например, понадобилось Паркеру распространить военную революцию на море — он и старается как можно раньше найти доминирование в морских сражениях кораблей с бортовым расположением орудий, одновременно говорит об упадке галер в период, когда они вовсю здравствовали в Средиземноморье, а поскольку хочет он писать о кораблях, то и распространил границу военной революции до конца XVIII века, хотя на суше после изобретения штыка почти ничего революционного и не происходило. Критикуют Паркера и за то, что он считает доминирование европейцев и успехи колонизации следствием только военной революции, игнорируя остальные факторы и то, что больше туземцев гибло от эпидемий, чем от оружия белых.
In My Humble Opinion: военная революция: вступление и про пушки
Описав основные точки зрения современных учёных относительно военного дела 16-17 вв., позволю себе добавить к этому несколько слов от себя, ни на что особенно не претендуя. Скажем так, мнение, которое сформировалось на основе всего прочитанного массива по теме, и которое, соответственно, может и меняться «при вновь открывшихся обстоятельствах».

In My Humble Opinion: военная революция: вступление и про пушки
Описав основные точки зрения современных учёных относительно военного дела 16-17 вв., позволю себе добавить к этому несколько слов от себя, ни на что особенно не претендуя. Скажем так, мнение, которое сформировалось на основе всего прочитанного массива по теме, и которое, соответственно, может и меняться «при вновь открывшихся обстоятельствах».

Прежде всего, замечу, что само понятие революции — вещь довольно расплывчатая (и многие авторы сводят историческую дискуссию к чисто терминологической, не замечая удаления от темы). Лично мне споры о правильных определениях глубоко скучны. Для целей разговора об изменениях в военном деле я буду исходить из понимания революции как кардинального изменения, произошедшего за относительно короткий срок. Главное тут не точность формулировки, а противопоставление революции и эволюции (т.е. обычного, а не скачкового развития). Грубо говоря, в этом смысле эталоном революции в военном деле является первая половина 20 века, а в смежных областях — научно-технические революции 17 и 19 века.
В этом смысле, как мне кажется, говорить о военной революции в ранее новое время нельзя. Однако, так же нельзя и сказать, что происходила обычная эволюция военного дела. Во-первых, точнее было бы вести речь о том, что в произошло несколько разных революций, сильно разнесённых по времени и конкретному месту в Европе. Взаимосвязь между ними иногда отсутствовала, а иногда была самой что ни на есть прямой. Уверенно можно сказать только, что в результате воевать стали вовсе не так, как воевали пару столетий назад. Во-вторых, эти революции нельзя назвать и чем-то, присущим только Ренессансу (раннему новому времени). Так что выделение любого «периода военной революции» в целом обречено на неудачу, если это делается с претензией на уникальность. Рамки такого периода будут иметь тенденцию к почти что бесконечном расширению в обе стороны (вот и начали историки с 1560-1660, а закончили пока что 1400-1815 и это не предел). Единственный подход, с которым не поспоришь — это выбор периода исключительно в силу личных пристрастий автора. В-третьих, в разных странах военное дело изменялось по-разному, а потому огромное количество общих схем на поверку оказываются применимыми только к одному-двум государствам. Это тоже связывает исследователям руки.
Зато можно говорить о военной революции 16-17 века как о хорошей провокации, вызвавший интерес к теме, благодаря чему и появилось в последние два десятилетия столько потрясающих книг. А для любителей Ренессанса, можете поверить, даже одна хорошая книга — это уже более значительное событие, чем для любителя ВМВ — десяток. Не слишком популярный период, да.
Ещё надо отметить, что заметной чертой историков, узконаправленных на войны Ренессанса, является недооценка предыдущего времени и последующего. Так, Робертс в упор не видел Итальянские войны и кондотьеров, а Паркер — почти не обращал внимания на войны Средневековья, и оба они считают, будто непосредственно до и после описанной ими военной революции прогресс в военном деле шёл гораздо медленнее, оттого она одна такая особенная. Самое смешное, что это общеисторическая проблема: многие из тех, кто пишет, например, по 18 или 19 веку в свою очередь считают унылым 16-17 века. Да что там, многие книги среднего уровня, касающиеся 16-20 вв. вообще написаны так, будто по мнению их авторов в Средние века военное дело практически не изменялось. Картина маслом: много столетий европейцы только и делали, что без всякой стратегии и тактики однообразно месили друг друга мечами и копьями, периодически постреливая из луков-арбалетов-катапульт.
Между тем, мне кажется, нельзя сводить военную революцию к технологическому детерминизму. Недостаточно показать, что было изобретено новое оружие — надо показать, что оно породило новую тактику и стратегию. Да и вообще нельзя считать, что революции в военном деле могут быть только технологические, ведь есть куча других факторов — идеологических, социальных, государственных, экономических и т.д. И совсем уж странно не просто игнорировать другие факторы, а считать, будто технологические изменения обуславливают остальное (как Паркер про влияние на изменения характера государственной власти).
Чтобы пояснить вышесказанное, коротко коснёмся «отдельных революций» Ренессанса (не всё сразу — учтите, что это растянется на несколько частей).
Пальму первенства, естественно, надо отдать развитию огнестрельного оружия. Действительно, на первый взгляд это самая настоящая революция, нечто совершенно новое, чего раньше вообще не было. Между тем, даже самые очарованные порохом люди знают, что он далеко не сразу стал заметно влиять на ход войны. Так что само появление пороха в Европе — это конечно ура и ах, но поначалу его мало кто заметил. Потребовались целые столетия медленного прогресса (медленного по европейским меркам, конечно, и чудовищно стремительного по прочим), прежде чем этот «порошок дьявола» стал обязательным условием победы.
При этом в первую очередь развивалась, грубо говоря, пушки, а не ружбайки. Соответственно, и малых революций в военном деле оказалось несколько, да и не всё с ними однозначно. Порох кардинально повлиял на осады, быстро показав качественно иной уровень, нежели традиционные швырялки камней — это, безусловно, революция, начало которой я бы датировал последним периодом Столетней войны, а пик пришёлся на 1490-е годы (взятие Гранады и начало Итальянский войн). Далее пушки в 16-17 вв. (а то и в 18 веке) по сути только эволюционировали, доводя до совершенства изначальную идею. Изобретались новые виды лафетов, новые сплавы, новые формы, мини-революцией стал переход от каменных ядер к металлическим, придумали картечь, заранее подготавливали заряды и т.д. Важным фактором было и то, что улучшение качества пушек и пороха делало артиллерийское ремесло более предсказуемым. Ещё в конце 16 века наука уже знала о баллистике больше, чем это было реально осуществить, и артиллеристы-практики в соответствующей испанской школе, созданной Филиппом II, однажды отменно посрамили заграничного артиллериста-теоретика, все знания которого оказались бесполезными без опыта стрельбы, причём стрельбы «именно из вот этой конкретной пушки». А когда такие теоретики оказались нужны, соответственно эффективность артиллерии выросла на порядок.
Так что, медленно всё менялось в осадной артиллерии, никак не революционно. Вне осад артиллерию пытались использовать с самого начала, и это тоже было нечто кардинально новое. Однако долго использовали сначала с минимальным, а затем — с переменным успехом (в одной битве качественно превратят в мясо вражескую армию, в другой их пуканье почти не заметят), прежде чем результат стал предсказуемо существенным. Какой-то революционный скачок датировать сложно, очевидно только постоянное увеличение роли пушек, зато применительно к Тридцатилетней войне уже можно сказать, что да, там артиллерия уже вовсю перемалывает противника, и без неё никуда. По-моему, тут просто дело не в каких-то изобретениях новых видов пушек, а больше в общем изменении войн: они стали более массовыми и дорогими, государства смогли мобилизовать большие ресурсы, сыграли роль другие изменения в тактике... Вот и вышло, что лёгкие пушки, прославившие Густава Адольфа, практически не были замечены там, где появились задолго до шведов (Шотландия, Швейцария, если забыть о гуситах), а потом несмотря на опыт Тридцатилетней войны пушки сыграли минимальную роль в английских гражданских войнах, хотя отличие от войн на континенте состояло только в масштабе (встречались армии тысяч в 5 вместо 50).
Вопрос о влиянии пушек на стратегию, логистику и вопрос о связи артиллерии с эволюцией государственной власти — сложные и объёмные, так что их я лучше коснусь позже.
В целом же пушки — это да, колоссальное новшество, пусть не 100% революционное в смысле того, что изменение-то качественное, но не быстрое по времени. Сюда же добавим и развитие пороховых мин, которые возникли быстро, но потом мало что в этом деле так уж сильно изменилось вплоть до «минной войны» во время осады Севастополя в Крымскую.
В следующих частях этого «романа с продолжением» — так же коротко про ручной огнестрел, холодное оружие, пехоту-кавалерию, тактику, стратегию, государства и прочее, чего сейчас не упомню.
Военная революция: ружья
Продолжим краткий обзор военных революций XVI-XVII вв. После пушек перейдём к огнестрелу поменьше: аркебузам да мушкетам. Правда, до аркебуз ещё надо было дорасти. Первые формы ручного огнестрельного оружия были простыми и суровыми: грубо говоря, бралась болванка (стволом её назвать язык не поворачивается) и тем или иным способом приспосабливалась к деревянной палке. Получалась потрясающе революционная штука по принципу действия, но сущее убожество на практике по сравнению с уже имеющимся оружием. Стреляло это чудо европейской мысли во всех смыслах слова хуже, чем арбалеты, и, по сути, использовали его просто потому, что кое-какой эффект всё же имелся, а стоили эти пугачи в разы дешевле и квалифицированных мастеров не требовали. А ещё из укреплённой на крепкой палке пушечки выходила отличная дубинка.
Военная революция: ружья
Продолжим краткий обзор военных революций XVI-XVII вв. После пушек перейдём к огнестрелу поменьше: аркебузам да мушкетам. Правда, до аркебуз ещё надо было дорасти. Первые формы ручного огнестрельного оружия были простыми и суровыми: грубо говоря, бралась болванка (стволом её назвать язык не поворачивается) и тем или иным способом приспосабливалась к деревянной палке. Получалась потрясающе революционная штука по принципу действия, но сущее убожество на практике по сравнению с уже имеющимся оружием. Стреляло это чудо европейской мысли во всех смыслах слова хуже, чем арбалеты, и, по сути, использовали его просто потому, что кое-какой эффект всё же имелся, а стоили эти пугачи в разы дешевле и квалифицированных мастеров не требовали. А ещё из укреплённой на крепкой палке пушечки выходила отличная дубинка.
По мере улучшения технологии и пороха огнестрел стал приобретать и другие преимущества кроме цены. Внешне «гонны» так и продолжали выглядеть примитивно, но на дюжине метров достаточно уверено попадали по индивидуальной цели и пробивали любые доспехи к чёртовой бабушке. Причём делали это лучше, чем всякие аркебузы в XVI веке, потому что латы в XIV-XV вв оставались относительно тонкими и твёрдыми для защиты от холодного оружия, а против пуль требовались более толстые и вязкие пластины. Плюс не стоит недооценивать психологический эффект, которые вполне мог остановить неопытного противника.
И чем дальше, тем больше росло это преимущество, вскоре превзойдя уже даже самые мощные арбалеты в несколько раз (и дело тут не только в джоулях, но и в том, как прекрасно рикошетили стрелы при попадании в металл не перпендикулярно). А ещё и само попадание пули обладало намного большей останавливающей силой, о которой так любят забывать любители робингудов и вильгельмтеллей. Плюс, даже если человек не умирал сразу, то с очень большой степенью вероятности терял всякий интерес к участию в бою и всё равно отдавал концы в самом ближайшем будущем от сопутствующего пулевому ранению заражения. Тем более, что дезинфицировали проникающие раны в те времена с помощью кипящего масла (а обезболивали, например, с помощью киянки по медному котелку, надетому на голову).

эта картинка есть везде, где пишут про ранний огнестрел, пусть будет и здесь

эта картинка есть везде, где пишут про ранний огнестрел, пусть будет и здесь
Короче, уже с самого начала ручное огнестрельное оружие имело явный потенциал, а потому его не забрасывали, несмотря на насмешки любителей луков и арбалетов. Проблем было четыре: невеликая дальность, неудобное воспламенение пороха, медленная перезарядка и невысокая точность. Дальность повышали за счёт удлинения ствола и укрепления его под большее количество пороха. Для воспламенения революционным изобретением стал фитильный замок (конец Столетней войны, а то и чуть раньше). На точность работало и удлинение ствола, и, главное, превращение зажимаемой под мышкой палки в удобное ложе с прикладом. Перезарядку ускорил переход от пороховой мякоти к гранулированному пороху, а ещё с увеличением дальности поражения стало возможным перезарядку компенсировать с помощью различных перестроений.
В любом случае, поскольку поначалу стреляли недалеко и можно было схлопотать сдачи, первые стрелки защищались как могли: и доспехи надевали, как для рукопашной, и павезы использовали, как арбалетчики, а самые умные вообще стреляли из-за укреплений. Не зря само название аркебузы происходит от немецкого «ружья с крюком», которое цепляли за крепостную стену. Подобно тому, как артиллерия долгое время в основном упрощала осады, ручной огнестрел был преимущественно оружием осаждённых, тем более, что всегда можно было положить рядом ещё несколько заряженных стволов, а производили огнестрельное оружие как раз к крупных городах. Так что ничего удивительно в любви к самопалам и гаковницам гуситов, благо пока до появления настоящей полевой артиллерии вагенбурги довольно неплохо держали штурмы (а после — становились просто отличными мишенями для ядер).
Так что, технологически первые ружья были революционны, но потребовалось больше столетия, чтобы они стали как-то влиять на тактику боя. Сила выстрела не перевернула сражения осени Средневековья с ног на голову, а вписались в них как просто ещё один виток в споре атаки и защиты. Первых стрелков из ручного огнестрела и использовали не по отдельности, а вперемешку вперемешку с лучниками и арбалетчиками, да и общее их количество оставалось небольшим относительно прочих пехотинцев и совсем смешным по сравнению с массами лучников в английских армиях.
Между тем, к началу XVI века аркебузы уже стали достаточно удобными в применении, и создались все предпосылки для вытеснения ими арбалетов и луков. Однако всё это — вопросы тактики и стратегии (которых я коснусь в будущих постах), а технологически XVI век для ручного огнестрела стал веком эволюции. Появление мушкетов, изменение их моделей и калибров, новые формы прикладов, новые виды фитильных замков, улучшение качества стволов и пороха... Всё это происходило постоянно, так же постепенно менялась и тактика, используя возможности более совершенного оружия. Параллельно появлялись и изобретения, которым ещё предстояло пройти свой период доведения до ума, прежде чем перейти из разряда экзотики в обыденность. Это касается и нарезных стволов, и кремнёвых замков и многого другого. Например, бумажные патроны, содержащие и пулю, и отмеренный заряд, придумали ещё испанцы, но так и не смогли заставить солдат клеить их самостоятельно: стрелки предпочитали обходиться натрусками (которые в то время ещё не получили популярное сегодня название «двенадцать апостолов», тем более что и было их далеко не всегда двенадцать). Затем бумажные патроны упорно вводил Густав Адольф, но в ходе кампании опять же у шведских солдат не всегда доходили руки до такой возни. В итоге новшество окончательно прижилось только после того, как бумажными патронами войска стали снабжать централизованно.
Выделить можно разве что колесцовый замок, который очень быстро от опытных образцов перешёл к массовому производству, по сути создав новый вид огнестрельного оружия — пистолеты, которые в свою очередь по-настоящему революционно повлияли на тактику кавалерии. А вот кремнёвый замок совершенствовался относительно долго и вынужден был доказывать сначала своё преимущество перед фитильным (чего не наблюдалось даже в середине XVII века), а потом и целесообразность замены старых замков на кремнёвые. Такая же длинная история была и у замены деревянных шомполов на металлические (окончательно — только в начале XVIII века), и у штыков (о которых больше стоит говорить применительно к пехотной тактике, чем к эволюции огнестрельного оружия).
После появления кремнёвого замка и вплоть до XIX века по сути технологически в ружье мало что менялось, в отличие от его тактического использования. Таким образом, революционным было, во-первых, само появление огнестрельного оружия у пехоты, во-вторых появившееся через полтора столетия эволюции окончательное превосходство огнестрельного оружия над луками и арбалетами, и в-третьих, появление огнестрельного оружия у конницы. Всё остальное, связываемое с ружьями и пистолетами, уместнее обсуждать в связке с тактикой всего войска на поле боя (в том числе и вопросы дальности-точности-силы выстрела, и конкретные причины отмирания луков и арбалетов), поскольку частенько на тактику влияло не столько огнестрельное оружие само по себе, сколько другие факторы.
@темы: Военная история, История







 Пожалуй, больше всего опытов на себе врачи поставили, доказывая заразность различных заболеваний.
Пожалуй, больше всего опытов на себе врачи поставили, доказывая заразность различных заболеваний. 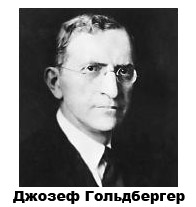 Иногда опыты по передаче инфекции себе дают отрицательный ответ, но и в таком случае они могут быть весьма неприятными для врача. Американский профессор Джозеф Гольдбергер в 1916 году решил установить, является ли инфекционной болезнью пеллагра или же она относится к авитаминозам. Для этого Гольдбергер и пятнадцать его коллег поставили опыт на себе. Они взяли материал от больных пеллагрой: кровь, выделения из носа и рта, кожные чешуйки – и в течение месяца подмешивали к своей пище. Никто из врачей не заболел пеллагрой, что опровергло мнение об ее инфекционной природе. Сейчас известно, что пеллагра вызывается недостатком в организме никотиновой кислоты.
Иногда опыты по передаче инфекции себе дают отрицательный ответ, но и в таком случае они могут быть весьма неприятными для врача. Американский профессор Джозеф Гольдбергер в 1916 году решил установить, является ли инфекционной болезнью пеллагра или же она относится к авитаминозам. Для этого Гольдбергер и пятнадцать его коллег поставили опыт на себе. Они взяли материал от больных пеллагрой: кровь, выделения из носа и рта, кожные чешуйки – и в течение месяца подмешивали к своей пище. Никто из врачей не заболел пеллагрой, что опровергло мнение об ее инфекционной природе. Сейчас известно, что пеллагра вызывается недостатком в организме никотиновой кислоты.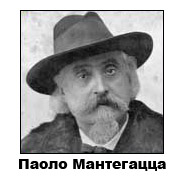
 Говоря о рискованных экспериментах на себе, нельзя не вспомнить французского врача Алена Бомбара, который в 1952 году пересек на резиновой лодке Атлантический океан без запасов пищи и пресной воды. Он работал в порте Булонь и как-то задумался над тем, почему большинство жертв кораблекрушений, оказывающихся в море, умирает в первые три дня. От голода и жажды они должны были бы умереть позже. Он изучал проблемы выживания в экстремальных ситуациях, знакомился со всеми доступными ему отчетами о людях, спасенных на море или же найденных погибшими. Он пришел к выводу, что большинство людей могло бы выжить, если бы не их отчаяние. Бомбар писал позднее: «Жертвы легендарных кораблекрушений, погибшие преждевременно, я знаю: вас убило не море, вас убил не голод, вас убила не жажда! Раскачиваясь на волнах под жалобные крики чаек, вы умерли от страха!».
Говоря о рискованных экспериментах на себе, нельзя не вспомнить французского врача Алена Бомбара, который в 1952 году пересек на резиновой лодке Атлантический океан без запасов пищи и пресной воды. Он работал в порте Булонь и как-то задумался над тем, почему большинство жертв кораблекрушений, оказывающихся в море, умирает в первые три дня. От голода и жажды они должны были бы умереть позже. Он изучал проблемы выживания в экстремальных ситуациях, знакомился со всеми доступными ему отчетами о людях, спасенных на море или же найденных погибшими. Он пришел к выводу, что большинство людей могло бы выжить, если бы не их отчаяние. Бомбар писал позднее: «Жертвы легендарных кораблекрушений, погибшие преждевременно, я знаю: вас убило не море, вас убил не голод, вас убила не жажда! Раскачиваясь на волнах под жалобные крики чаек, вы умерли от страха!».  Немецкий врач Вернер Форсман был одним из создателей метода катетеризации сердца. При разработке этой операции он испытал ее на себе в 1928 году. Коллеги считали, что при проникновении в сердце инородного предмета наступит шок и остановка сердцебиения. Форсман, тем не менее, решился на опыт. Он надрезал вену у локтя и ввел в нее узкую трубку. В первый раз до сердца трубка не дошла, потому что ассистент отказался продолжать опасный эксперимент. Во второй раз Форсман действовал самостоятельно. Он ввел катетер на 65 сантиметров и достиг правой половины сердца. После этого Форсман включил рентгеновский аппарат и получил подтверждение своего успеха. За разработанную им методику Форсман совместно с американскими врачами Корнаном и Ричардсом получил в 1957 году Нобелевскую премию.
Немецкий врач Вернер Форсман был одним из создателей метода катетеризации сердца. При разработке этой операции он испытал ее на себе в 1928 году. Коллеги считали, что при проникновении в сердце инородного предмета наступит шок и остановка сердцебиения. Форсман, тем не менее, решился на опыт. Он надрезал вену у локтя и ввел в нее узкую трубку. В первый раз до сердца трубка не дошла, потому что ассистент отказался продолжать опасный эксперимент. Во второй раз Форсман действовал самостоятельно. Он ввел катетер на 65 сантиметров и достиг правой половины сердца. После этого Форсман включил рентгеновский аппарат и получил подтверждение своего успеха. За разработанную им методику Форсман совместно с американскими врачами Корнаном и Ричардсом получил в 1957 году Нобелевскую премию.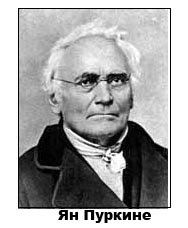






 Снимут на уровне книги - будет классно. Если в жанре "про зомби" можно говорить о реализме, то это одна из наиболее реалистичных вещей, исключая моментов когда Брукс пишет про другие страны.
Снимут на уровне книги - будет классно. Если в жанре "про зомби" можно говорить о реализме, то это одна из наиболее реалистичных вещей, исключая моментов когда Брукс пишет про другие страны. 





