Доброе Мировое Зло (Миф)
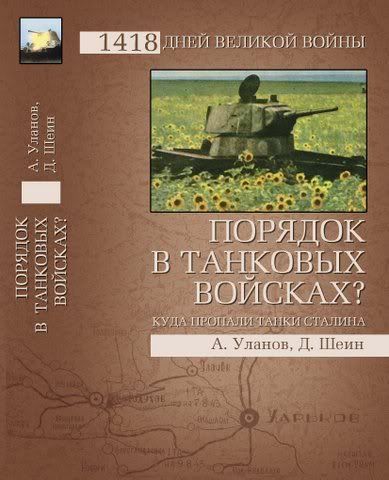
Пишет Кристофер Рид:
Ф порядке наглой рекламы.
"Французская" глава из нашей, с ув.Шеиным будущей книги. Решил выложить, т.к. во-первых, тема здесь раскрывается достаточно отдельная от основной, а во-вторых, тема эта вполне заслуживает отдельной книги.
И, конечно же, огромное спасибо А.Калинину и А.Чистякову.
P.S. И да, распостранение всячески разрешается и приветствуется - только копирайт не забывайте указывать

читать дальше
Лакмус блицкрига
Мы уже упоминали несколько наиболее популярных ответов на вопрос: «почему же бесчисленные орды сталинских танков не «сыграли» в начавшейся 22 июня войне?». Но перед тем как перейти к нашим дальнейшим объяснениям, стоит чуть подробнее остановиться на этой теме.
Итак:
1). Во всем виновата внезапность. Этот ответ стал «канонической версией» еще в советские времена. «Углубленный и расширенный вариант», как правило, уточняет, что разведка доложила точно, а вот глупый Сталин ей не поверил.
2). Всех умных офицеров репрессировали в 37-ом, армия была обезглавлена, остались только верные Сталину дураки, которые воевать не умели. У этой версии также есть «углубленный и расширенный вариант», гласящий, что и расстрелянные в 37-ом были дураками, а всех умных офицеров и генералов перебили еще в Гражданскою – а кого не убили, тот успел убежать.
3). СССР сам изготовился к нападению на Германию, а обороняться не мог и не умел.
4). Русский народ (а так же все другие народы СССР) не пожелал сражаться за кровавый сталинский режим.
Существует так же множество подверсий, но большинство из них, так или иначе, являются отголосками вышеперечисленных четырех.
Что ж... если бы мы были химиками, то выбрать правильный ответ было бы достаточно просто. Достаточно взять лакмусовую бумажку – и сразу станет ясно, имеем ли мы дело со щелочью, кислотой или нейтральной средой. С историей проделать подобный опыт заметно сложнее.
Однако кое-что сравнить мы можем.
«Всего в N-ой дивизии было 215 танков. Единственной пехотной частью был батальон мотопехоты, перевозимый на автобусах! Радиостанций в дивизии практически не было, а приказы доставлялись в части велосипедистами. Артиллерия дивизии состояла из нескольких частей резерва. Службы снабжения и технического обслуживания практически не существовали».
Как ни покажется странным некоторым читателям, в этой цитате речь идет вовсе не об РККА. Упомянутой дивизией командовал человек с характерной французской фамилией де Голль.
Еще до начала Великой Отечественной Войны с немецким блицкригом познакомилась другая страна. В мае 1940-го, задолго до «Барбароссы», немецкая армия провела наступление по плану «Гельб».
При этом:
1). Ни о какой внезапности нападения речь не шла – война была давно объявлена, и длилась уже более полугода.
2). Ни во Франции, ни в Англии в XX веке не было ни революций, ни гражданских войн. Офицеров с опытом Первой Мировой никто не расстреливал и не заставлял эмигрировать.
3). К наступлению на Германию в конце мая 40-го союзники не готовились, по крайней мере, о существовании подобных планов еще не один месье ВиктОр Наполеон не писал.
4). Французские солдаты должны были воевать не за кровавого диктатора Альбера Лебрена, а за вполне демократическую «Третью республику».
Тем не менее, кроме различий, между Францией-40, точнее союзными силами в 1940-м, и СССР-41 имелось и кое-что общее. А именно – превосходство в численности танкового парка.
На 10 мая 1940-го года союзники имели в боевых подразделениях 3447 танков и самоходных орудий. Еще раз – в боевых подразделениях и на территории собственно Франции. Если же посчитать «как за СССР», то всплывут и пять с лишним сотен танков, раскиданных по колониям от Алжира до Индокитая, и распределённые по всяким «взводам охраны» Renault FT 17... ну да ладно. Все равно немцы задействовали в плане «Гельб» всего 2626 танка. Хотя... стоп-стоп-стоп. Мы ведь помним про особенности немецкого учета? А если собрать «веником с пола» всякие PanzerJäger и Sturmgeschütz? Конечно, немецкие мастерские еще не «раскочегарились», но и так уже можно получить 2811 танк и самоходку. Все равно меньше, чем у союзников, но уже чуть получше.
При этом, кроме чисто количественного превосходства у союзников было также подавляющее, вернее сказать, раздавливающее качественное превосходство. Французы имели на вооружение свои «Т-34» – средние танки Somua S35 – 47-мм пушка, скорость под 40 км/ч, 40-мм толщина наклонной лобовой брони. Аналогичного серийного танка в других странах на тот момент просто не было. Немногим хуже выглядели «кавалерийско-пехотные» Hotchkiss H35 и H39 – 40 мм лобовой брони, со скоростью у последней модели за 35 км/ч.
Также у французов имелся свой «КВ» – «пехотный» танк Renault B1bis, имевший 60-мм лобовую броню, 47-мм пушку в башне и 75-мм орудие – в корпусе. Одних этих «французских КВ» на 10 мая 1940-го в войсках было 208 штук. Забегая вперед, отметим, что боевые эпизоды с их участием похожи на аналогичные бои советских КВ «как две капли воды». Вот, например, танк Renault B1bis «Eure» под командованием капитана Биётта/Billotte. 16 мая 1940 года в районе деревни Стонн/Stonne он практически уничтожил колонну 8-го тп 10-ой танковой дивизии Вермахта. В ходе боя на узкой улочке этой деревни танкисты подбили 2 Pz IV, 11 Pz III и уничтожили два 37-мм ПТО. На башне и корпусе «Рено» после боя насчитали 140 вмятин, но ни одной пробоины не было. А экипажи танков B1bis «Mistral» и «Tunisie» устроили разгром немецкой колонны, состоявшей из танков, бронеавтомобилей и грузовиков, в деревне Ландреси/Landrecies к югу от Мормальского леса днём 17 мая 1940 года. В течение примерно получаса танкисты всего двух машин уничтожили свыше 50 транспортных средств и БТР, несколько танков Pz I и Pz II и шесть 37-мм противотанковых орудий 7-ой танковой дивизии. И опять, немецкие снаряды оставили на французских танках множество вмятин, но ни одной пробоины. Ну, чем лейтенанты Помпье/Pompier и Годе/Gaudet не французские Колыбановы?
Заметим, что из имевшихся на 10 мая в немецких танковых дивизиях 2626 танков, больше половины были типов Pz I и Pz II (643 и 880 соответственно). Да и чуть более совершенные «трёшки» в мае 40-го могли похвастать лишь 30-мм броней и «короткой» 37-мм пушкой.
Также обратим внимание, что французская доктрина использования танков была вовсе не такой устарелой, как ею любили представлять в СССР. В отдельных танковых батальонах, предназначенных для поддержки пехоты, использовались, по большей части, легкие танки старых типов – так же, как СССР направлял в соответствующие части Т-26. При этом французская армия имела и «настоящие» мехчасти более высокого уровня: кирасирские дивизии (резерва) DCu/DCR и легкие механизированные дивизии DLM. Кстати, упомянутые выше танкисты «французских КВ» как раз и воевали на Renault B1bis в составе 3-ей и 2-ой DCR. Но поговорим о доктрине и составе танковых дивизий Франции чуть позже.
В сентябре 1939-го во французской армии был сформирован даже 1-ый «настоящий» кавалерийский корпус/Le Corps de Cavalerie (CC) генерала Приу/Prioux, в который вошли 1-ая (заменённая 26 марта на 3-ю) и 2-ая DLM. На 10 мая 1940 года 1-ый кавкорпус имел в своем составе, в боевых подразделениях и в резерве, 451 танк, в том числе 194 средних Somua S35 и 257 легких Hotchkiss H35 и H39 (из них более 60 были оснащены новыми 37-мм длинноствольным орудиями). В общем, «все было». Конечно, не в таких количествах, как у СССР, но было, было. А потом вдруг взяло и куда-то подевалось. И как именно это произошло – стоит присмотреться повнимательней, для начала всего лишь на двух характерных примерах.
Обратимся вначале к 1-ой кирасирской дивизии резерва (1e DCR). Дивизия была создана 16 января 1940 года, и включала в себя 25-ый, 26-ой, 28-ой и 37-ой танковые батальоны. К началу майских боев в дивизии имелось 143 танка (+16 «запасных» машин»), из которых 63 (+6) были «французскими КВ» – Renault B1bis. Так же в дивизии имелись 24 105-мм гаубицы, 8 47-мм ПТП SA37 и 6 25-мм зениток в составе дивизионного артполка (305e RATTT). Еще 9 25-мм ПТП SA34/37 было в составе дивизионного мотопехотного батальона (5e BCP).
10-го мая 1940 года дивизия генерала Брюно/Bruneau перебрасывается из Франции в Бельгию, в район Шарлеруа. Дивизия совершает смешанный марш, частично по автодорогам, частично по железной дороге. Размещение – севернее Шарлеруа с целью поддержки 1-ой французской армии. 14-го мая, в связи с критическим положением на фронте 9-ой армии на Маасе, дивизия верховным командованием французов передается в её распоряжение.
В 14.00 14-го мая 1-ая DCR получает приказ двигаться на юг, в район Динана/Dinant и контратаковать продвигающиеся к Франции немецкие «подразделения». Первые танковые части дивизии прибывают в район Флавиона/Flavion к ночи, в 20.00, а основная масса подразделений – только утром 15-го мая. Движение нарушается и сдерживается потоком беженцев, так, что некоторым танкам требуется 7 часов на то, чтобы преодолеть 35-км отрезок пути. Основная же масса артполка и мотопехота будут находиться на марше в районе Флоренна/Florennes в течение всего дня, и так и не успеют добраться до своих танков и принять участие в бою. Но самым опасным оказывается отставание танковых заправщиков Lorraine 37L TRC, которые, к тому же, понесут потери от Люфтваффе. Только к 7.00 15 мая удается наконец провести заправщики к нескольким танкам возле Орет/Oret, в 9 километрах северо-западнее Флавиона. К этому времени у многих танков топлива в баках оставалось всего на 1-2 часа, некоторые танки были уже вообще обездвижены.
Противостоял французским танкистам XV немецкий моторизованный корпус Гота – 5-ая и 7-ая танковые дивизии. Всего в них имелось 546 танков, из которых, правда, только 194 были пушечными (Panzer 38(t), Pz III, с короткой 37-мм пушкой, и Pz IV с 75-мм «окурком»).
Первым в бой вступил 28-ой танковый батальон. В его ротах к этому моменту было 26 Renault B1bis (4 машины 3-ей роты отстали во время марша 14-го мая), частично даже не закончивших заправку. Его противником вначале стал 25-ый танковый полк 7-ой танковой дивизии. Командовал 7-ой танковой в тот момент генерал-майор Роммель.
Первые танки немцев были замечены в 8.30 3-й ротой. Атака немцев блокирована, 5 танков подбито. Немцы, для которых появление здесь тяжёлых французских танков стало сюрпризом, продолжают атаку и стараются обойти 6 «французских КВ», попадая при этом под огонь всей роты. Ответный огонь более чем ста немецких танков успеха не приносит, хотя, в конце концов, им удается поджечь один французский танк и убить механика-водителя в другом, попав в смотровую щель рубки. К 9.00 немцы откатываются назад.
В 9.30 25-ый тп немцев пытается маневрировать и обойти позицию французов с фланга. 2-ая рота 28-го тб пытается остановить их, но вскоре у танков кончается топливо. Все танки получают множество попаданий, огрызаясь из своих орудий и тратя последние капли бензина на прицеливание 75-мм орудий.
Немцы уже поняли, что у «двушек» вообще нет шансов против B1bis, а остальные машины неэффективны на дальней и средней дистанции. Ближе к полудню в небе появляется корректировщик Hs-126, и на французские танки обрушивается град снарядов. Не желая тратить силы, Роммель после 10.00 двигает основную массу своей дивизии на запад, в обход французской позиции, оставив разбираться с B1bis несколько танков, разведывательный батальон, большую часть ПТП дивизии и артиллерию. В дополнение к этому позиции французов начинают обрабатывать пикировщики Ju-87.
К 12.00 на помощь 7-ой тд подтянулся 31-ый тп, а ближе к обеду – и 15-ый тп из 5-ой танковой дивизии корпуса Гота. Танки 5-ой тд имели гораздо более сложную задачу – они не могли обойти позиции противника, а были вынуждены пробиваться через них. Первые машины 31-го тп вышли на северный фланг 28-го тб и в 12.45 вступили в бой с 1-ой ротой французов. Замеченные с 1,8-2 километров, уже на километровой дистанции немцы были обстреляны из 75-мм пушек. Французские танки вели огонь с места, почти не маневрируя из-за недостатка топлива.
Спустя час с начала перестрелки 31-ый тп потерял танк командира полка, а у большинства Pz IV банально кончились боеприпасы: грузовики снабжения еще находились на восточном берегу Мааса. Ситуация становилась критической для немцев – сами того не зная, отбив атаку 31-го тп, французы открыли путь в тыл танкам Роммеля. В отчаянии командир 31-го тп лично возглавил очередную попытку приблизиться к французской линии и выбить обороняющиеся танки.
Один за другим, B1bis теряют ход из-за отсутствия топлива, а 88-мм зенитные «ахт-ахт» немцев начинают расстреливать обездвиженные машины с километровой дистанции. У французов кончаются боеприпасы, экипажи оставляют танки и, или пробираются в тыл, или остаются на поле боя, продолжая воевать с пистолетами в руках. Некоторые из них доберутся до своих только спустя несколько дней.
Тем не менее, в 14.00, после почти пяти с половиной часов боя, 28-ой тб все еще удерживает свои позиции. Наконец, к 18.00 поступает приказ отступать к Шастру/Chastres и Бомону/Beaumont (приказ доставлен офицером-связным, так как радиоантенны на всех танках сбиты, а аккумуляторы посажены постоянным вращением электропривода башен при молчащих моторах). Те из танков, что сохранили способность двигаться, начинают отползать к Ставу/Stave и Шастру. Остальные продолжают стрелять до полного израсходования боезапаса. В итоге с наступлением темноты только 3 танка из 26 сумели выйти из боя и соединиться с 4-мя машинами, ранее отставшими из-за поломок на марше. На конец дня 15-го мая 28-ой батальон сохранил только 8 машин (включая танк командира батальона) из 31.
В 12.15 того же дня другой танковый батальон 1-ой DCR, 37-ой, машины которого носили преимущественно имена французских департаментов и исторических лиц, получил приказ поддержать 28-ой тб, но его заправка топливом началась только в 11.30 и растянулась вплоть до 13.00.
Вторая рота на южном фланге имела всего 7 танков из 10: «Dakar» и «Var» отстали на марше из-за поломок, а «Oise» застрял утром на речке Бьер. Построив силы в три взвода по 2 машины в каждом, в 13.15 рота начала атаку. Первый («Ourcq» и «Isère») и третий («Guynemer» и «Gard») взводы построились обратным клином, на острие которого был командирский танк, второй взвод («Saône" и «Hérault») составил им прикрытие с тыла.
Вскоре, однако, "Saône" потерял подвижность и был взят на буксир «Hérault». Отстав от основных сил роты, они были обстреляны из засады танками и ПТП в районе леса Бьер-л’Аббэ/Biert-l’Abbé. В результате «Saône» был окончательно выведен из строя, а «Hérault» получил несколько попаданий в ведущее колесо. Танки потеряли ход и были брошены экипажами.
Тем временем 5 танков («Ourcq», «Isère», «Guynemer», «Gard» и командирский «Adour») продолжили движение. Вскоре на открытой местности все пять танков были обстреляны из хорошо замаскированных танков и противотанковых орудий с расстояния в 700-800 метров. Множественные попадания в броню, однако, не причиняли им существенного вреда.
На самом деле, лес на левом фланге атакующей роты был буквально напичкан ПТП и Pz IV 5-ой танковой дивизии, так что французы атаковали при соотношении 1 к 6 не в свою пользу. Один из снарядов разбил замок люка экипажа на левом борту «Guynemer», и экипажу пришлось придерживать его закрытым, «Adour» (машина капитана Жильбера, командира роты, погибшего в этой атаке) и «Gard» были подбиты, «Ourcq» и «Isère» сохранили строй и вместе с «Guynemer» составили новый взвод, продолжая движение.
Огонь слева от наступающих машин не прекращался, хотя и стал менее интенсивным: Pz IV сменили Pz III с их 37-мм пушками. В то же время перспективы атаки выглядели всё более сомнительными, и французские танки получили приказ на отход.
По итогам сражения «Guynemer», «Ourcq» и «Isère» подбили по 4 танка каждый, а «Adour» – 3 танка. Число танков, подбитых «Gard» неизвестно, но и так пять машин записали на свой счет не менее 15 танков.
Впрочем, отход на исходные позиции показал печальное состояние танков. Двигатель «Ourcq» вышел из строя, едва танк дополз до своих. Правая гусеница «Guynemer» была почти разбита. «Isère» также имел ощутимые повреждения. Каждый из танков получил более 50 попаданий, и все три машины в итоге экипажам пришлось уничтожить.
Все время атаки 2-ой роты 37-го тб две других роты батальона обороняли линию фронта, обстреливая осколочными снарядами немецкую пехоту, пытавшуюся просочиться мимо танков, при этом один танк третьей роты был потерян. После того, как атака второй роты завершилась неудачей, батальон получил приказ на отступление в 16.30 к высотам у Сомте/Somtet, где предписывалось занять оборону. Первая рота сразу вышла на дорогу к Сомте, а вот третья наткнулась на ручей и была вынуждена двигаться к северу, чтобы достичь хорошей дороги у Денэ/Deneé. Однако Денэ уже удерживалось передовыми частями 2-го батальона 28-го пехотного полка 8-ой пехотной дивизии немцев, включая артиллеристов 8-го артбатальона (12 105-мм орудий), ПТ 14-ую роту 84-го пп, ПТП из противотанкового батальона дивизии и 88-мм «ахт-ахт» из 1-ой роты учебного полка зенитной артиллерии (FlaK-Lehr-Regiment).
B1bis смяли несколько 37-мм ПТП, вышли на шоссе и двинулись через Денэ, но на западной границе поселка попали в засаду 105-мм орудий и 88-мм зениток. Два замыкающих танка в колонне, «Amiral Guépratte» и «Belfort II», загорелись, оставшиеся 7 на полном ходу проскочили сектор огня немецких артиллеристов. Однако капитан Жак Леу/Lehoux перегруппировал свои силы и принял решение атаковать Денэ, несмотря на отсутствие пехоты, артиллерии и какой-либо авиационной поддержки, а также на то, что его танкам грозило быть отрезанными от своих.
В результате самоубийственной атаки командирский «Poitou II» получил несколько попаданий 105-мм снарядов, и его экипаж сгорел в танке вместе с самим командиром. Вскоре та же участь постигла и остальные атаковавшие машины.
«Nivernais II» получил 105-мм снаряд в маску 75-мм пушки SA35. Командир танка продолжил атаку, используя 47-мм пушку и пулемет, однако боекомплект осколочных снарядов был истрачен еще утром, и ему пришлось стрелять по немецкой артиллерии бронебойными. С расстояния в 500-600 метров экипаж заметил два полевых орудия, и, дав по ним один выстрел, "Nivernais II" на полном ходу двинулся на них. Снаряды стучали по броне, но танк сумел подойти на 150 метров, остановился и открыл огонь. Чтобы лучше разглядеть результаты стрельбы, командир танка поднялся в командирскую башенку, однако в этот момент именно туда пришлось попадание 105-мм снаряда. Башенка была сорвана с крыши, командир потерял левый глаз и с обильной кровопотерей сполз на дно машины. Экипаж выбрался через бортовой люк и был прижат к земле пулеметным огнем. В 18.00 уцелевшие танкисты были взяты в плен.
Танк «Vendée II» получил 105-мм снаряд в рубку механика-водителя, который был убит, а два других члена экипажа были ранены. Танкисты покинули машину, но командир задержался, чтобы вывести танк из строя, и был ранен близким разрывом снаряда. Остальные члены экипажа были взяты в плен.
О судьбе 3-ей роты командир 37-го тб узнал от немногих выживших лишь утром 16 мая. Весь вечер 15-го обездвиженные танки у Денэ продолжали огрызаться огнем, командиры оставались в башнях, прикрывая отход своих экипажей, основная часть из которых была, тем не менее, пленена немцами. Успехи роты оценивались в 5-8 уничтоженных тяжелых орудий и несколько раздавленных «колотушек». 37-ой тб в результате боя сохранил лишь 11 танков, включая машину командира батальона, да еще три запасных «французских КВ» имелось в тылу.
Всего же по итогам боёв 15 мая из 143 изначально вступивших в бой французских танков 1-ой DCR, примерно 65 (около 40 Renault B1bis и 25 Hotchkiss) были уничтожены или брошены. А оставшиеся танки дивизия потеряла в течение последующих 5 дней отступления...
С похожим конечным результатом «выступил» в мае 40-го и уже упоминавшийся кавалерийский корпус Приу со своими «французскими Т-34» – Somua S35. После начала немецкого наступления корпус получил задачу прикрыть развертывание 1-ой французской армии в Бельгии. Его основные бои с вошедшими со своей стороны границы в Бельгию немцами развернулись к западу от городка Анню/Hannut.
12 мая, с раннего утра, к позициям французов из 3-ей DLM выходят передовые подразделения XVI мотокорпуса Гепнера, основной ударной силой которого были 3-я и 4-ая танковые дивизии – 632 танка, из которых пушечными были 132 Pz III и Pz IV. Фактически начинаются встречные бои, – французы пытаются продвинуться или контратаковать, а немцы хотят продолжить своё собственное наступление. К 8.00 немецкие танки 4-ой тд достигают центра практически незащищенного Анню – причем, это делают легкие Pz II. Получасом позже и несколькими километрами западнее, в местечке Креен/Crehen французские танкисты останавливают немецкое продвижение, подбивая 4 танка. Однако ситуация быстро меняется: на помощь к «двушкам» подходят Pz III, и Hotchkiss попадают под огонь немецких «трёшек». Толстая броня не спасает французов от тяжелых потерь. В итоге 3-х часового боя в городке горят 11 французских и 5 немецких танков, а 10 оставшихся боеспособными Hotchkiss отходят.
Проведя в 16.30 танковую разведку в Креен, французы обнаруживают, что он оставлен немцами, и посылают туда взвод Somua S35 лейтенанта Лозицки/Lositsky из состава 2-го «кирасирского» полка. Примерно в это же время, около 17.00, боевая группа 4-ой тд на основе 1-го батальона 35-го тп немцев начинает с окраины Анню наступление на Тизнь/Thisnes. Французы останавливают немецкое продвижение, уничтожая танки противника, в том числе танк подполковника Эбербаха – впоследствии командира 4-ой танковой. Огневой налёт нескольких батарей французских 75-мм орудий 3-го дивизиона 76-го артполка окончательно срывает немецкую атаку «в лоб», дополнительно поджигая ещё несколько танков.
Стремясь обойти французские позиции в городке с тыла, севернее Тизнь немцы встречаются не только с Hotchkiss, но и с впервые контратакующими их Somua S35 капитана де Бофора/de Beaufort. В прямых столкновениях с ними немецкие легкие танки имеют немного шансов на выживание. До конца дня, а точнее до начала ночи, «кирасиры» де Бофора уничтожают несколько танков, потеряв всего один свой. В то же время в Креен взвод лейтенанта Лозицки, продвигаясь в сторону Анню, сталкивается с немецкими танками, уничтожает 4 из них и несколько грузовиков. Повернув в сторону Тизнь, он «нейтрализует» по пути батарею противотанковых пушек. От начинающейся паники немцев спасает только наступившая ночь, а французы «просачиваются» к своим, потеряв в темноте 2 машины.
После 20 часов вечера того же дня и вплоть до полуночи немцы пытаются проводить новое наступление – в направлении Жандрена/Jandrain. Однако артиллерийская подготовка оказывается недостаточной, а авиационная поддержка слабой – французы встречают немецкие танки пушечным огнём, контратакуя противника собственными танками. В результате немецкое продвижение захлебывается – французские танки выходят из боя, имея по 20-40 прямых попаданий 20-мм и 37-мм орудий и, как правило, ни одной пробоины.
Стойкость подразделений кавалерийского корпуса не меняет, тем не менее, общей картины идущей уже третий день «горячей» войны – французы и бельгийцы медленно, но неуклонно отступают под напором ударного «кулака» германской армии. К вечеру 12 мая они окончательно эвакуируют Креен и Тизнь. Танки и пехота уходят на вторую линию обороны – в Мердор/Merdorp, Жандронуй/Jandrenouille и Жандрен. Всего в этот день 2-ой «кирасирский» полк 3-ей DLM, на который пришёлся основной удар танкистов Гепнера, потерял 24 Hotchkiss и лишь 4 Somua.
Только одной ночи хватает немцам, чтобы пересмотреть свою тактику борьбы с новыми толстобронными французскими танками. Согласно воспоминаниям немецких ветеранов, экипажам легких машин запретили вступать в бой с Somua S35. Их должны были впредь уничтожать «трёшки» и «четверки», противотанковые орудия с близкой дистанции и 88-мм зенитные «ахт-ахт» – с дальнего расстояния. Для противодействия «французским Т-34» также рекомендовалось использовать прямой наводкой и 105-мм артиллерию.
13 мая французская сторона продолжала использовать преимущественно 3-ю DLM, а вот на помощь 4-ой тд немцев ускоренным маршем из-под Маастрихта прибыла 3-я тд. Однако первыми в этот день начали французы, и именно из 2-ой DLM – это будет её единственный бой в тот день в поддержку «соседа слева». 6 взводов S35, около 30 танков, атаковали южный фланг 4-ой тд в направлении Креен примерно в 5.30 утра. Впрочем, немцы не понесли существенных потерь – им помогло использование 88-мм зениток. С 9.00 и в особенности 11.30 за дело взялись пилоты Люфтваффе. После авиационной и артиллерийской подготовок немецкая пехота и следующие за ней танки начали массированный прорыв к Жандронуй и Жош/Jauche на участке всего в 5 километров шириной – здесь были сконцентрированы практически вся техника и весь личный состав 3-ей и 4-ей танковых дивизий моторизованного корпуса!
4-ая тд наступала к югу от Анню, и её основной целью являлись Мердор и Жандронуй, обороняемые в основном танкистами 2-го «кирасирского» полка. Пройдя незанятые войсками Креен и Тизнь, немецкие пехотинцы в 13.00 при поддержке охватывающих городок с севера и юга танкистов 35-го и 36-го танковых полков и после авиационной бомбёжки атакуют Мердор. Разгорается сильный бой, в котором немецкой пехоте и лёгким танкам успешно противостоят огонь 1-го дивизиона 76-го артполка и Somua S35 капитанов де Бофора и Ардуана/Hardouin. Подход Pz IV и 88-мм «ахт-ахт», уничтоживших 2 S35, меняет ситуацию и заставляет французских танкистов ретироваться в центр городка. Немецкие солдаты начинают занимать его, а французские танкисты и мотопехота, собравшись в группу, прорываются в 13.40 в направлении на Жандронуй под прикрытием всё тех же Somua S35.
В свою очередь, к 16.00 остатки двух эскадронов Hotchkiss 2-го «кирасирского» полка, обороняющие Жандронуй, вместе с присоединившимися к ним «окруженцами» из Мердор, с боями и по приказу отходят ещё дальше на запад, теряя свои последние танки.
А 3-я тд мотокорпуса Гепнера вела наступление к северу от Анню, в направлении на деревни Марий/Marilles и Жош. Ей здесь противостояли прежде всего солдаты и офицеры 11-го мотопехотного полка (11e RDP), имевшего на вооружении танки Hotchkiss H39, а в самом Жоше – танкисты 1-го «кирасирского» полка. Занимая деревни на пути к Марий, немцы подавляют там «очаговую» оборону французов и выбивают их танки, бои с которыми на деревенских улицах принимают порой характер «рукопашной». Местность также не особо способствует успеху наступающих – густонаселённая, она изобилует протоками и ручейками с взорванными мостами.
Тем не менее, в 14.15 французские войска, обороняющие Марий, атакуются 35 немецкими танками. В контратаке Hotchkiss уничтожают 6 из них, ценой потери 4 своих машин. Местность вокруг местечка начинает покрываться дымящимися каркасами танков, в начале преимущественно немецких, а затем всё более и более «с примесью» французских Hotchkiss и Somua. После 15.30 и воспользовавшись передышкой, предоставленной пошедшими в атаку танками, французская артиллерия и мотопехота покидают деревню. Теперь бой концентрируется примерно в 10 километрах от Анню, в окрестностях Жандрена и Жоша.
Однако ещё до этого момента, примерно в 13.30, в окрестностях Жандрена произошла атака 14 французских Somua S35 резервного эскадрона капитана Амель/Ameil 1-го «кирасирского» полка против танков 4-ой тд, яростно, но несколько невнимательно атаковавших французскую оборону южнее, в направлении на Мердор и Жандронуй. Французы появляются настолько неожиданно, и огонь их так силён, что неготовые к этому немецкие танки вспыхивают один за другим. Срочно «вызванные» Ju-87 «Штука» пытаются сорвать французскую атаку, но те не несут от бомбардировки никаких потерь. Тем не менее, бой постепенно выравнивается, и в 14.30 французские танки 1-го полка отходят по приказу в Жош, которому начинает угрожать наступление уже 3-ей тд. Их место, однако, занимают S35 2-го «кирасирского», и бой со значительными потерями с обеих сторон продолжается. Только примерно в 18.30 вечера 4-ая тд возобновляет своё продвижение на запад по оставленной 2-ым «кирасирским» полком 3-ей DLM местности. Французский полк потерял в этот день ещё 11 Somua и 4 Hotchkiss.
Жандрен и Жош оборонялись 11 мотопехотным полком и 1-ым «кирасирским» полком соответственно до 17.30 и 17.00 13 мая. Отошли французские части оттуда, расстреляв почти все боеприпасы и понеся большие потери в технике и личном составе, по приказу командира корпуса. Один из Hotchkiss унесёт на себе следы от не менее чем 50 немецких снарядов, срикошетивших от него в течение дня!
В результате этих двухдневных непрерывных боёв 3-я DLM безвозвратно потеряла «на лужайках» Бельгии 68 Hotchkiss из 155 и 37 Somua S35 из 95, т.е. 41% численности своего боевого танкового «парка». По французским данным немецкая сторона потеряла 164 машины, преимущественно Pz I и Pz II. Говорить о «безвозвратности» здесь, как вы понимаете, увы, не приходится.
К 25 мая французские силы покинули Фландрию. К этому моменту весь кавалерийский корпус – три легких механизированных дивизии (к этому времени в его состав включили и остатки 1e DLM), имел всего лишь 75 боеспособных танков против 585 на 10 мая.
С 25 по 27 мая корпус вел арьергардные бои, прикрывая отход французских и британских сил к морю. 29 мая он отступает к Дюнкерку. Французские ветераны в своих воспоминаниях утверждают, что без «кавалеристов» нормальная эвакуация Британского Экспедиционного Корпуса была бы невозможна. В боях прикрытия французы теряют свои последние средние Somua S35, и к концу мая 1-ый кавкорпус практически прекращает свое существование, как боеспособная боевая единица...
Итак, приведенные выше примеры представляются внимательному читателю достаточно красноречивыми. Перед тем же, как продолжить дальше наш рассказ о событиях во Франции в мае 40-го года, немного остановимся на некоторых особенностях французской военной организации того времени.
Как уже было сказано, на начало французской компании Вермахта крупные танковые соединения «третьей республики» были двух типов – «кавалерийские» лёгкие механизированные дивизии DLM (1-ая, 2-ая и 3-я DLM по состоянию на 10 мая) и «пехотные» кирасирские дивизии резерва DCu/DCR (1-ая, 2-ая и 3-я DCR, также на 10 мая 1940 г.).
Кроме того, общевойсковым армиям французской армии, находившимся в континентальной Франции, на дату 10 мая 1940 г. были приданы 34 отдельных танковых батальона. И если на вооружении 6 фактически танковых дивизий (DLM и DCR) состояли новые толстобронные современные танки Renault B1bis, Somua S35, Hotchkiss H35 и H39, общим числом в 1100 единиц, то отб были вооружены самыми разнообразными машинами, от достаточно экзотических FCM 36 вплоть до «старичков» времён прошлой Великой войны.
Детально это выглядело следующим образом: 20 отб были вооружены танками Renault R35 (893 машины на 10 мая), 2 отб – танками Hotchkiss H35 (90 машин на 10 мая), ещё 2 отб – танками FCM 36 (90 машин 10 мая), и по одному отб имели на вооружении «сверхтяжёлый танк прорыва» 20-х гг. FCM 2C (7 машин) и танк Renault D2 (44 машины). Ещё 8 батальонов были вооружены «бестселлером» Первой Мировой Войны, танком Renault FT 17 (504 танка на 10 мая 1940 г.). Таким образом, общее количество танков, реально состоявших на вооружении армейских отдельных танковых батальонов, равно 1628 единицам.
Необходимо также упомянуть о французских танках, входивших в состав лёгких кавалерийских дивизий DLC (80 Hotchkiss H35 и H39) и т.н. разведывательных групп пехотных дивизий GRDI (30 машин Hotchkiss H39). Сложив все приведённые выше цифры, мы получим вполне внушительную сумму в 2838 разнообразных танков, находившихся в боевых соединениях французской действующей армии. Из них около 2300 являлись вполне современными и, более того, достаточно равномерно распределёнными между крупными механизированными соединениями, подчинявшимся армиям или армейским группам, и отдельными танковыми батальонами, призванными, в первую очередь, обеспечивать «непосредственную поддержку» французской пехоте на дивизионном и полковом уровне.
«Тыл» у этой массы танков в мае 1940 г. состоял из более чем 670 бронеавтомобилей и лёгких самоходок различных типов, включая такие современные образцы, как «Панар», около 1600 танков различных типов, находившихся на складах «метрополии», в её военных школах, на полигонах и т.п., а также месячного выпуска более чем 200 танков трёх оставшихся основных типов (Renault B1bis, Hotchkiss H39 и нового Renault R40), что соответствует примерному среднемесячному весеннему уровню выпуска танков «разогнавшейся», наконец, французской промышленности.
Получающаяся картина безмерно далека от совсем ещё свежего стереотипа, согласно которому у союзников в 1940 г. не было ни крупных танковых соединений, ни большого количества танков вообще. Ещё одним уже упоминавшимся стереотипом является часто до сих пор повторяемое утверждение, что якобы совершенно «замшелые» уставы и регламенты французской армии не позволяли ей использовать самостоятельные танковые соединения, подвергая современную военную мысль 30-х гг. прошлого века остракизму или забвению. Да, действительно, трудно ожидать от страны, понесшей такие большие потери в ПМВ (памятники погибшим в которой с множеством фамилий стоят до сих пор практически в каждой французской деревне) иного, нежели канонизации форм и методов, приведших к столь дорого доставшейся победе, пусть и с поправками на изменившееся время. Финансовое состояние Франции, переживавшей одновременно с другими промышленно развитыми странами экономический кризис 30-х гг., имевшей относительно многочисленную армию мирного времени и к тому же строившей «линию Мажино», также было далеко неблестящим, да и социальные бури, инициированные на этот раз великой русской революцией, не обошли её стороной. Опять же, будущим противником Франции снова и с очень большой вероятностью становилась жаждавшая реванша Германия, а не некая абстрактная «страна третьего мира». И тем не менее, вспомним ещё совсем недавнюю Историю...
Из ПМВ Франция вышла танковой державой № 1, произведя более 3500 знаменитых Renault FT 17, 400 танков «Schneider СА» и пр. и имея в начале 20-х гг. XX века на вооружении самоходную крупнокалиберную гусеничную артиллерию, 100 «тяжелых» английских танков Mark V* и 10 собственных сверхтяжёлых «танков прорыва» FCM 2C. «Штурмовая артиллерия» (AS, l’artillerie d’assaut, как именовались тогда танковые войска), детище генерала Этьена, заслужила свои первые восторженные отзывы и награды. По окончании ПМВ она подчиняется пехоте, и её основной ролью на долгие годы становится «сопровождение пехоты огнём и маневром». Это не должно удивлять – тактико-технические характеристики танков того времени, передвигавшихся, что по дорогам, что вне их со скоростью, редко превышавшей скорость пехотного марша, и требовавших длительного обслуживания после каждого «броска» на всего лишь 15-20 километров, просто не позволяли использовать эти гусеничные машины иначе. Но жизнь не стояла на месте, развивались и техника, и военная мысль: ближе к середине 20-х – началу 30-х гг. французская армия начинает «моторизовываться» и «механизироваться». Первый термин включал в себя, в первую очередь, автомобилизацию, второй – появление все большего количества танков и тактически самостоятельных частей на их основе.
Тут необходимо вновь отметить тот факт, что гусеничные бронированные машины Франции к началу ВМВ «проходили по двум ведомствам» – часть из них «состояла» в кавалерии, а оставшиеся подчинялись пехотному командованию. Это явилось следствием развития каждого рода войск, со своими специфическими задачами и средствами, каковыми они виделись в 30-е гг. прошлого века. Итоговым результатом и фактическим венцом их развития и стало появление на свет DLM/Division Légère Mécanique, лёгкой механизированной дивизии кавалерии, и DCu/DCR/Division Cuirassée (de réserve), кирасирской дивизии резерва пехоты. Оба соединения имели разные, но дополняющие друг друга цели на поле боя.
Так, «кавалерийская» танковая дивизия DLM, во взаимодействии с другими частями и соединениями кавалерии, должна была обеспечивать при выдвижении и наступлении разведку, прикрытие на марше, упреждающее занятие выгодных рубежей и развёртывание на них системы оборонительного огня, а также принимать участие в тревожащих и контратакующих действиях поддерживаемых кавалерией пехотных частей и соединений. При отступлении танковая «кавалерия», подобно всем своим конным предшественницам, должна была прикрывать отступающих и, при необходимости, держать оборону вплоть до полного исчерпания средств сопротивления. Соответственно, боевые машины «лёгкой» DLM должны были быть способны выполнять все эти поставленные задачи. Поэтому, кроме нескольких типов бронемашин, дивизия имела в своём составе относительно быстроходные танки Somua S35 («французские Т-34»), а также Hotchkiss H35 и H39, вооружаемые в последние месяцы выпуска длинноствольными орудиями и способные проходить значительные расстояния. Кстати, приведённое выше описание боевых действий кавкорпуса Приу в Бельгии полностью соответствует ставившимся тогда перед кавалерией задачам.
Пехотные «танковые» кирасирские дивизии DCR, напротив, были «тяжёлыми». Их основные задачи заключались либо в мощном контратакующем ударе по прорвавшемуся противнику, в том числе и по его танковым частям, либо в допрорыве его оборонительной полосы. Отсюда и их танковый состав: в составе дивизии было две танковых бригады, тяжелая с танками Renault B1bis, и лёгкая с всё теми же Hotchkiss H39.
Однако наиболее существенные различия между «кавалерийскими» и «пехотными» танкистами лежали даже не столько в различии типов их основных боевых танков, S35 и B1bis, сколько в «наполненности» дивизий разведывательными частями, пехотой, сапёрами, связью и артиллерией, которые имелись в составе «пехотной» DCR, если и не в рудиментарном, то в достаточно ограниченном количестве. Да, дивизия «в идеале» должна была действовать при поддержке других частей и соединений армии или армейской группы, которые были обязаны «снабдить» её всем необходимым для ведения полноценных боевых действий.
Только вот, к сожалению, реальности начавшегося 10 мая немецкого наступления оказались очень далеки от этого, столь гладкого на бумаге, идеала. Как мы уже видели, это очень быстро осознала оказавшаяся «в гордом одиночестве» перед лицом танкового корпуса Вермахта 1-ая DCR…
Ещё одним существенным различием, быстро проявленным начавшимся немецким наступлением, было и то, что DLM сформировали значительно раньше DCR (3 «кавалерийские» дивизии были сформированы соответственно в 1934-35, 1937 и в 1939-40 гг., а 3 «пехотные» – буквально накануне «горячей» войны, в январе и марте 1940 г.). Данный факт самым серьёзным образом сказался на их «спаянности», способности к самостоятельным действиям, на взаимодействии внутри дивизий, а также на способности командования разумно использовать, да и что говорить, даже элементарно снабжать эти новые соединения!
Отметим, что согласно предвоенным представлениям французского командования совместное, взаимодополняющее использование DLM и DCR должно было обеспечить неприкосновенность границ Франции (вести крупномасштабные действия на земле которой после мясорубок ПМВ, разрушивших хозяйство 10 департаментов страны, никто и не собирался) и возможность действий её крупных соединений на открытой, неприкрытой укреплениями местности. В дальнейшем танковые войска были призваны помочь прорвать оборону противника и перевести военные действия в маневренную фазу на его территории. Создание же специализированных частей и соединений должно было, как тогда представлялось, обеспечить Франции «качественное превосходство» над немцами, которым французы банально проигрывали по численности населения и, соответственно, по численному составу мобилизуемой в случае войны армии. До боли напоминает один знакомый лозунг насчет «малой кровью и на чужой территории», не так ли?
Стоит остановиться и на тех «пехотных» танках, что не вошли в состав дивизий, а составили т.н. BCC, bataillons de chars de combat, т.е., отдельные танковые батальоны французской армии (пример их боевого использования у нас ещё впереди). Именно они, со своими небольшими, для пущей незаметности на поле боя, и медлительными, для согласования своей скорости с бегущим человеком, танками должны были осуществлять ту самую «непосредственную поддержку пехоты», на которую так любят до сих пор сваливать все танковые огрехи 40-го года многие историки. Что же, это было действительно так, пехоту считалось необходимым «поддерживать». Ещё Первая Великая война со всей очевидностью показала это. Впрочем, Вторая это тем более не опровергла, и любому знакомому с её Историей сама эта формулировка не представляется чем-то абсурдным или неправильным. Более того, французский пехотный устав 1936 г. очень подробно и разумно расписывал все этапы подготовки и проведения таких совместных с танками действий, ничуть не сводя их к вялой езде танков, неспешно постреливающих под боком идущей или окапывающейся «пехтуры». Уставные фразы были совсем другими: «...Танки усиливают эффект неожиданности, так как они дают возможность начинать атаки без артподготовки. Это, в первую очередь, наступательные машины, которые не могут быть использованы в обороне, кроме как в контратаках... Танки должны, в принципе, использоваться массово, одновременно, на большом фронте и для глубоких атак».
Что же до массирования танков, то все французские предвоенные воинские уставы не только не умалчивают об этом (см. выше), но и прямо его предписывают! То же самое можно сказать и о контратакующих действиях танковых войск, и об ударах на сокрушение по неподготовленному противнику, и о многом другом, чему являются прямым свидетельством страницы Истории ВМВ, написанные немецкими, советскими, британскими и американскими танкистами. И искать причины поражения французских танковых частей надо, по-видимому, не в повторении неких мифов, сложившихся уже около 70-ти лет тому назад и часто продиктованных политическим моментом и выгодой тех или иных противоборствующих группировок, а в строго историческом анализе произошедших событий. Уже первые попытки его осуществления показывают нам, что настоящие проблемы были совсем не в общей малочисленности танков или негодной доктрине их применения, а, например, в низкой дисциплине исполнения приказов и её крайней медлительности. Или в полном неведении пехотных командиров самого разного уровня о порой элементарных вопросах тактики и «логистики» подчинённых им танковых частей. Или в отсутствии какого-либо зенитного или авиационного прикрытия мест развёртывания танковой дивизии. Или в низкой инициативности непосредственных исполнителей, слишком буквально придерживающихся «духа и буквы устава». Или в практически полном отсутствии разведки, что войсковой, что авиационной. И т.д. и т.п. А главное, «проблема» была в противнике, которому всё вышеописанное, как казалось, было совершенно незнакомо, и который, как опять же казалось, каждый раз и почему-то очень быстро находил «ассиметричный ответ» на вдруг возникающие перед ним сложности.
Французские танковые дивизии, как соединения именно танковых войск такого размера, были ещё очень молоды, как говориться, «с иголочки». Если первые две «кавалерийские» танковые дивизии были достаточно хорошо обучены, то даже о третьей, а тем более о «пехотных» танковых дивизиях, этого сказать никак нельзя. Несмотря на кажущееся доминирование в танковой тактике «поддержки пехоты», практика взаимодействия с пехотными частями, да ещё неизвестно какой дивизии, была en masse отработана слабо. Что же говорить о более «технически трудных» действиях больших масс танков, атакующих противника при массированной гипотетической артиллерийской или авиационной поддержке?!
Если говорить о материальной части, то если она была, как мы видели, вполне современного качества в танковых дивизиях, то тихоходные танки отб, с их одноместными башнями и слабенькими короткоствольными «пукалками» были, да, трудноприменимы в другой роли кроме как бронированной противопулемётной пушки. Средства связи в нашем современном понимании, а не трудноразличимая уже за несколько километров «морзянка», были крайне малочисленны и ненадёжны. Даже в период «странной войны» учения со стрельбами боевыми снарядами были редкостью – а как же, война ожидается долгая, надо экономить. А уж отработка взаимодействия с авиацией, передавать сообщения которой с земли предполагалось практически исключительно выкладыванием на земле специальных слов и фигур!
И, тем не менее, «если бы война повременила»... Французская промышленность в кои-то веки и, наконец, набрала вполне приличные темпы: в войска массово шла новая долгожданная техника, в том числе и закупаемая в Соединённых Штатах. На танки старых выпусков планировалось устанавливать радиостанции, а длинноствольные орудия уже даже начали ставить вместо окончательно изжившей себя пушки «старичка» Renault FT 17. Кавалерия собиралась сформировать к 1941 г. уже 8 DLM, а пехота наконец-то должна была начать «шлифовать» и «отлаживать» тактику применения своих свежесозданных бронированных «кирасир». Но война, а точнее, гитлеровская Германия, долго ждать не стала, и 10 мая 1940 г. стало для французской армии тем, чем для Красной Армии нашей Родины стало 22 июня года 1941.
Как известно, наверное, всем интересующимся наукой Историей, немцы вторглись в Голландию и центральную Бельгию, но свой основной и призванный решить участь всей компании охватывающий манёвр, в первую очередь силами семи танковых дивизий, они осуществляли южнее, проходя через юг Бельгии и Люксембург и фактически обтекая с двух сторон Арденнский лесной массив. Для французов эта «горячая фаза» войны началась вполне буднично и также согласно их собственным планам: не ожидая основного немецкого удара на юге, они двинулись основными силами в северную и центральную Бельгию, стремясь максимально сократить предполагаемую будущую линию позиционного фронта и поддержать своих «собратьев по несчастью», бельгийцев и голландцев. Упоминавшийся ранее кавалерийский корпус прикрытия генерала Приу шёл на острие т.н. «манёвра Диль-Бреда», теоретического детища французского главнокомандующего генерала Гамелена/Gamelin. Вместе с ним вперёд двинулись части и соединения 1-ой, 7-ой и 9-ой французской армий, а также БЭК. Вся эта масса войск была призвана установить сплошную линию фронта на достаточном удалении от французской границы, фактически лишённой здесь каких бы то ни было долговременных укреплений. Намечавшийся позиционный фронт должен был проходить, как правило, по водным протокам – рекам и каналам. И как это частенько случается, «гладко было на бумаге, но забыли про овраги». Опять же, главным неучтённым «оврагом» оказались немцы.
Мы уже видели, что французские «кавалеристы» 2-ой и, в первую очередь, 3-ей DLM достаточно успешно вели в Бельгии сдерживающие действия против войск Вермахта. Однако основная «интрига» происходившего действа была совсем не там, пусть и в то же самое время – она происходила в нескольких десятках километров южнее, там, где, пробираясь через бельгийские завалы и отбиваясь от конных разъездов французов, через лесистую местность на запад упорно шли 3 моторизованных корпуса Гота, Рейнхарда и Гудериана. Личный состав их семи танковых дивизий (5-ой, 7-ой, 6-ой, 8-ой, 2-ой, 1-ой и 10-ой) был настолько хорошо «мотивирован», что, несмотря на серьёзные трудности, они в основном вышли к Маасу, от Намюра/Namur до Седана/Sedan, к вечеру 3-го дня марша, т.е. 12 мая, или же к полудню 13 мая. И практически сразу, без какой-то особой подготовки, не ожидая подхода мощной артиллерии, немцы начали попытки переправы через реку. Для французского командования это оказалось шоком, событием, направленным «против всех законов физики»...
Три корпуса переправлялись через реку в трёх местах, однако самой известной, и не зря, считаются переправа и прорыв корпуса Гудериана под Седаном. Это место, мало того, что являло собой нечто особенное в франко-германских военных «отношениях» (достаточно вспомнить франко-прусскую войну 1870 г.), так оно ещё и позволяло придать немецкому охвату максимальную глубину и одновременно угрожать французской обороне чуть ли не на трёх стратегических направлениях – на Париж, в сторону Ла-Манша и на юг, в тыл «линии Мажино». Именно успешные действия корпуса Гудериана под Седаном позволили в итоге немцам создать во французской обороне брешь шириной до 80 километров и обезопасить двигавшиеся севернее моторизованные корпуса Рейнхарда и Гота от возможного контрудара танковых сил французов с юга. Рассмотрим события, происходившие там 12, 13 и 14 мая, более подробно.
Итак, во второй половине дня 12 мая, пусть и не одновременно, три танковые дивизии XIX армейского моторизованного корпуса Гудериана из танковой группы фон Клейста (если смотреть с французской стороны, то это будут, слева направо, 2-ая тд Вейля, 1-ая тд Киршнера и 10-ая тд Шааля) вышли к Седану, через который двумя рукавами протекает Маас или, по-французски, Мюз/Meuse. Им противостоял X армейский корпус Грандсара/Grandsart из 2-ой Армии Анцигера/Huntziger в составе 55-ой, 71-ой и 3-ей североафриканской пехотных дивизий, усиленный двумя отдельными танковыми батальонами – 4-ым и 7-ым BCC/BCL, вооружённых 90 дизельными французскими танками FCM 36. Пехотный резерв корпуса состоял из пехотных частей, «выдёрнутых» из собственных дивизий, а именно из 205-го (71-ая пд) и 213-го (55-ая пд) пехотных полков.
Надо дополнительно отметить, что 55-ая пд «серии Б», по которой 13 мая прийдётся главный удар немцев, по некой иронии судьбы, являлась одной из слабейших во французской армии. Она состояла в основном из местных резервистов старше 35 лет, которыми управляли также свежепризванные офицеры резерва (400 из 450 от общего числа офицерского состава). Зиму «странной войны» 55-ая пд провела не столько в учениях и стрельбах, сколько на строительстве укреплений. Противотанковое вооружение дивизии, из штатных 52-х 25-мм полуавтоматических ПТО SA 34 и SA 37, было далеко неполным, зенитная артиллерия, что своя, что приданная, полностью отсутствовала, средства связи были рудиментарными. В дополнение к этому, всего-то около 6000 человек личного состава дивизии, из сильно перемешанных буквально в самый последний момент частей, занимали оборонительные позиции вдоль реки протяжённостью более 15 километров. Впрочем, нельзя сказать, что командование не понимало сложившейся ситуации. Дивизия находилась вне зоны непосредственной опасности танковой атаки, за крупной водной преградой, на лесистой возвышенности, на заранее подготовленной оборонительной позиции, с пусть и незаконченными, но железобетонными укреплениями. Главное же, ей была придана многочисленная артиллерия: только в своём составе она имела 48 артиллерийских орудий калибров 75 и 155 мм, отдельные ДОТы также были орудийными, и дополнительно 55-ой пехотной дивизии придавалась корпусная артиллерия, что доводило в общей сложности количество артиллерийских орудий средних и крупных калибров до более чем 212 единиц!
К 17.00 12 мая под сильным давлением неугомонных немцев последние конные и моторизованные отряды прикрытия французской армии покинули правый берег реки и начали операцию по уничтожению мостов через неё. К сожалению, практически никакого минирования ни дорог, ни берега Мааса ими не было осуществлено. Всё было закончено примерно к 21.00 вечера – мосты были полностью взорваны, немцы вошли в соприкосновение с основными позициями французской армии под Седаном. Опять же, мы не можем утверждать, что французское военное командование полностью игнорировало сложившуюся ситуацию, якобы совершенно «загипнотизированное» событиями в центральной Бельгии и Голландии. Иначе будет трудно объяснить передачу во второй половине дня 12 мая 2-ой Армии 3-ей DCR генерала Брокара/Brocard и 3-ей моторизованной дивизии, направленных именно под Седан, в район будущих боёв под Стонн, в составе XXI армейского корпуса генерала Флавиньи/Flavigny. Кроме того, Анцигер отдаёт в этот день приказ, полный фраз «никакого отступления» и «без учёта потерь». К сожалению, французским эквивалентом знаменитого «Ни шагу назад!» он так и не станет.
Наступление назначается фон Клейстом на 15.00 13 мая «по парижскому времени» (на 16.00 – по берлинскому времени). Сгруппировав в центральной полосе наступления 1-ой тд практически всю наличную полевую артиллерию и заручившись поддержкой II и VIII авиакорпусов Люфтваффе, немецкое командование с рассвета начинает продвигать к реке штурмовые группы мотопехоты и сапёров. Приходят в движение и моторизованные части, оставив свои замаскированные танки позади. Всё это сопровождается практически непрерывной бомбардировкой французских позиций германской бомбардировочной авиацией, начавшейся в 7.00 и значительно усилившейся в 11.00. Многочисленная артиллерия французов старается отвечать огнём по предполагаемым местам переправ и скопления техники на занятом немцами берегу, но после нескольких часов авиабомбёжки нервы у необстрелянных французских солдат и офицеров начинают откровенно сдавать.
продолжение в комментах
@темы: Военная история, История
-
-
30.04.2011 в 22:50В такой обстановке, во многом закрытые от французского наблюдения поднятым авиабомбами облаком пыли и дополнительно поставленными Nebelwerfer дымовыми завесами, штурмовые группы 1-ой и 10-ой танковых дивизий, поддерживаемые полком «Великая Германия», начинают в 15.00 переправу через реку. Им предшествует огонь немецкой артиллерии, а 88-мм зенитки «ахт-ахт» помогают атакующим, ведя обстрел оборонительных укреплений на противоположном берегу прямой наводкой. Мы не будем подробно останавливаться на перипетиях этого боя, сказав только, что примерно к 18.30 на участке 1-ой тд «высокомотивированные» немцы прорывают французскую оборону. Беря многочисленных пленных и продолжая теснить ошеломлённых и слабо сопротивляющихся французов, нападающим удаётся к полуночи пробить узкую брешь в их обороне протяженностью не более 8 километров и создать плацдарм с примерно таким же основанием вдоль берега реки. Отметим здесь два примечательных факта.
Первый. В этот момент и естественно в течение всего полудня 13 мая на левом берегу Мааса действует только немецкая мотопехота и сапёры, вооруженные стрелковым оружием, огнемётами и взрывчаткой. Никакой речи не идёт даже о лёгких артиллерийских орудиях, не говоря уже о бронеавтомобилях или танках. Это ещё больше выделяет второй факт – примерно в 18.15, т.е. ещё до того, как исход боя был предрешён, среди французских артиллеристов и пехотинцев распространяется панический слух, что «боши перешли Мюз, и их танки подходят к Бюльзону!». Бюльзон/Bulson – это деревня примерно в 10 километрах от реки, рядом с которой находился КП 55-ой пд генерал Ляфонтена/Lafontaine. В результате возникшей массовой паники (panique de Bulson) сотни французских артиллеристов и пехотинцев, бросив оружие и не обращая внимания на призывы редких офицеров и своего комдива, устремляются в тыл, фактически оголив оборону на многокилометровом участке. Ни одно из множества военных и послевоенных расследований не обнаружило в данном случае, ни присутствия пресловутых «парашютистов-диверсантов», ни якобы «подрывных действий коммунистов», ни влияния так называемой «пятой колонны». Причины произошедшего, с очень большой долей основания, можно отнести только к одному – к массовой «танкобоязни», помноженной на необстрелянность непрерывно бомбардируемых авиацией войск, которая буквально взорвалась в результате неосторожно сказанного кем-то слова.
В результате произошедшего 13 мая французское командование со всей очевидностью встало перед необходимостью срочных и решительных действий. Враг неожиданно быстро прорвал основную линию обороны, оказавшуюся в результате массовой паники сильно оголённой в месте прорыва. Образовавшееся «отверстие» требовалось немедленно закрыть. И решение было принято в полном соответствии с тактическими правилами французской армии того времени: фланги прорыва были «загнуты» внутрь оборонительных позиций, и попутно было решено нанести 14 мая два танковых контрудара. Первый – силами резервов X корпуса, имевшего, как мы помним, 90 танков, и второй – силами подходящего XXI корпуса, с его практически 200 танками и бронемашинами. Дополнительно, район Седана и переправ через Маас должен был быть подвергнут с утра 14 мая массированной авиабомбардировке совместными силами авиации союзников. Как мы видим в очередной раз, нам не приходится говорить о «глупости» или «слепоте» французского верховного командования, якобы полностью прошляпившего удар немцев. Мало того, именно 13 мая и не только для «кавалеристов» корпуса Приу генерал Гамелен отдаёт общий приказ по армии о том, что «сейчас необходимо выдержать удар механизированных и моторизованных сил врага». «Час пришёл драться со всей силой на тех позициях, которые определены верховным командованием. У нас нет больше права отступать. Если враг осуществляет локальный прорыв, то необходимо не только создавать заслон, но контратаковать и отбивать утерянное», – гласил он.
Рассмотрим французские действия 14 мая подробнее. Надо сказать, что 4-ый и 7-ой отб имели свои особенности, связанные не только с их основной боевой техникой – дизельным танком FCM 36, имевшим хорошо заметный наклон 40-мм броневых листов. Так 7-ой батальон, например, выделялся тем, что, будучи сформированным 25 августа 1939 г. на основе 1-го батальона 503-го тп в Версале, он был более месяца фактическим «батальоном-инструктором» в учебном центре в Мурмелоне/Mourmelon непосредственно перед самым началом майских боевых действий. Там танкисты батальона и пехотинцы самых разных армейских полков ежедневно отрабатывали вопросы тактики и взаимодействия. Таким образом, когда батальон майора Жиордани/Giordani возвратился в распоряжение 2-ой Армии, это была сплочённая танковая часть, вполне освоившая свою технику и принципы её применения совместно с пехотными частями.
Приказ на выдвижение в лес между Бюльзоном и Шэмери/Chémery, находящийся примерно в 7 километрах от Седана, 7-ой отб получает в 17.30 13 мая, его движение начинается с наступлением сумерек, примерно в 20.30. Танкам батальона (44 боеспособных машины) необходимо пройти около 25 километров по запруженным многочисленными колоннами беженцев и панически отступающих солдат дорогам. В результате чего марш занимает значительно больше времени, чем планировалось, и 1-ая и 2-ая роты прибывают к Шэмери только в 4.30 14 мая, а 3-я рота – в 6.10. Командир батальона подчиняется командиру 55-ой пд и получает приказ совместно 213-ым пп выступить в северном направлении, имея последовательно целями: 1. высоты к югу от линии Бюльзон-Шэери/Chéhery, 2. высоты в Гаренском лесу, 3. Маас. Столь же амбициозную задачу получает и 4-ый отб, который должен в свою очередь взаимодействовать с 205-ым пп и наступать восточнее.
Надо сказать, что, видя запаздывание 4-го отб и 205 пп и не желая больше откладывать атаку, генерал Ляфонтен приказывает западной группе, 7-му отб и 213-му пп, перейти в наступление практически немедленно, не дожидаясь соседей. Намеченное на 5.00 выступление задерживается в ожидании прибытия 3-ей роты и для того, чтобы позволить пехотинцам пополнить запасы боеприпасов. Состав пехотных батальонов далеко неполный, какое-либо противотанковое оружие в них отсутствует. В конце концов, наступление, больше похожее на марш в походной колонне с крайне слабой артиллерийской поддержкой, без разведки и без каких бы то ни было определённых сведений о противнике (командир 3-ей роты капитан Миньётт/Mignotte только проехал на мотоцикле несколько сотен метров за окраиной Шэмери и тут же вернулся назад), начинается в 6.20. По горькой иронии судьбы примерно в это же время через Маас переправляются и первые танки 1-ой танковой дивизии Вермахта.
-
-
30.04.2011 в 22:50В такой ситуации немецкие ПТО 14-ой роты полка «Великая Германия», одними из первых переправившиеся через реку и получившие в 6.00 приказ продвигаться к Шэмери, начинают фактический расстрел французских танков. Немецких «противотанкистов» поддерживают подошедшие артиллеристы двух 88-мм «ахт-ахт» и танки. Бой длится около часа, потери несут обе стороны. Экипажи подбитых французских машин 3-ей роты стараются пробиваться к своим и подолгу вылёживаются в окрестных лесах, прячась от немецкой пехоты. В этой атаке из 13 участвовавших машин рота безвозвратно теряет 10 FCM 36.
1-ая и 2-ая роты 7-го отб в это же время старались продвигаться в сторону Бюльзона. Поддерживавшие их батарея 78-го артполка и 506 ПТ артиллерийская рота даже сумели подбить несколько немецких танков. Но и в центре атакующего порядка французов пехота залегла. Вот что напишет о ней после боя лейтенант-танкист из 1-ой роты: «Пехотный батальон, силой всего до двух рот, с нехваткой офицеров, практически без оружия, большинство личного состава без ружей и, в первую очередь, без патронов, у других 20 обойм или один пулемёт с единственным магазином ... несмотря на присутствие своего командира и меня, солдаты остаются лежать, полностью неспособные к движению». Натолкнувшись на подошедшие немецкие танки и проведя с ними часовой огневой бой, роты по приказу начинают отходить. Их потери не менее тяжелы, чем у 3-ей роты: 1-ая рота теряет 9 машин, 2-ая – 10. В общей сложности утром 14 мая 7-ой танковый батальон теряет 29 танков из 37 участвовавших в атаке. В 13.00 его 4 оставшихся боеспособными машины занимают оборону на северной опушке леса Мон-Дьё.
Получив сведения о потерях 7-го отб, генерал Ляфонтен отменяет своим приказом в 9.40 так ещё и не начавшееся наступление 4-го отб и 205-го пп, лично ставя, таким образом, жирный крест на всём плане контратаки X армейского корпуса и приказывая оставшимся частям дивизии отходить. Увы, громкие слова порой полностью расходятся с делом, даже на войне.
Что касается так и не произошедшего 14 мая, хоть и запланированного на 11.00 контрудара XXI корпуса генерала Флавиньи, то он, по-видимому, извечно будет излюбленной темой спора по поводу того, что «тогда всё ещё можно было изменить». Многочисленные проблемы, возникшие в ходе марша дивизий корпуса, сложности с заправкой танков, многочисленные задержки и «неувязки», да и что говорить, катастрофические потери, понесённые 7-ым отб, всё это привело к тому, что сотни французских машин, включая «французские КВ» B1bis, способных ударить в тыл повернувшим на запад танкам Гудериана, так и остались стоять на месте.
Как напишет после войны командующий Северо-восточным фронтом генерал Жорж: «Перед лицом надвигающейся опасности и последовавшей за этим концептуальной ошибки, генерал Флавиньи разделил 3-ю кирасирскую дивизию на малые части, для того чтобы прикрыть ими все возможные пути проникновения [немцев], вместо того, чтобы использовать это соединение как целое, в роли, для которой оно и готовилось. Таким образом, в итоге, контрудар, который я приказывал провести 3 (!) раза, так и не был осуществлён». И даже последующие упорные бои 3-ей DCR в районе деревни Стонн не позволяют избавиться от ощущения, что так французами был упущен 14 мая, может быть, их единственный Шанс.
-
-
30.04.2011 в 22:50Трагический день 14 мая завершился, таким образом, превращением тактического прорыва немцев в оперативный. В дальнейшем он будет только набирать обороты, несмотря на все попытки собственного командования, опасающегося французских фланговых ударов, попридержать его. В ходе его будет, и описанный выше безрезультатный бой 1-ой DCR у Флавиона, и неудачная, хоть и разрекламированная атака 4-ой DCR де Голля под Монткорне, и провалившаяся попытка контрудара под Аррасом, и безуспешные танковые атаки немецкого плацдарма под Абвилем. Всё это будет, но сути произошедшего это, увы, уже не изменит – немцы успешно доведут своё наступление до конца, для союзников же оно завершится крахом Дюнкерка и невосполнимой потерей десятков дивизий, сотен тысяч солдат и множества танков. Их будет крайне остро не хватать во второй половине этой скоротечной компании, которую немецкая армия также успешно осуществит в июне того же года по другому плану – плану «Рот».
В чём же надо искать причины произошедшего? В наиболее свежей франкоязычной исторической публикации «Франция во время Второй Мировой Войны, исторический атлас», изданном совместно Министерством Обороны республики и университетскими исследовательскими центрами, пишется буквально следующее:
«1. Свежий и оригинальный план [немецкого наступления], принимающий в то же время во внимание классический принцип концентрации усилий и основывающийся на известном стратегическом риске, полностью построенном на эффекте неожиданности.
2. Исключительно энергичные исполнители, по образу Гудериана или Роммеля, не останавливающиеся перед нарушением инструкций командования тогда, когда нужно идти вперёд, чем предотвращалось увязание немецкого наступления и, в то же время, восстановление обороны союзников.
3. Ошибочное использование французских [вооруженных] сил: танки и авиация разбросаны малочисленными группами по всему фронту; отсутствует моторизованный резерв главного командования после решения главнокомандующего французских сил, генерала Гамелена, сразу же задействовать лучшие дивизии в рамках операции «Диль-Бреда»; излишне сильно сконцентрированы силы в Лотарингии, там, где «линия Мажино» наиболее сильна, чем нарушался сам принцип экономии, заложенный при её строительстве.
4. Инерция французского командования, большинство наиболее высокопоставленных членов которого, зажатых оперативными схемами Великой войны, не было интеллектуально готово к столь быстрой маневренной войне. Эта инерция привела к тому, что в начале компании были упущены многочисленные возможности сокрушения «бронированного кулака» немцев в те моменты, когда он был наиболее уязвим, и когда само немецкое командование совершало ошибки, которые могли стать фатальными для его маневренных сил».
Не со всем, конечно, можно согласиться безоговорочно, но как сказал безымянный классик: «В главном то он прав». К сказанному можно добавить слова из ЖБД 14-го моторизованного полка 4-ой лёгкой кавалерийской дивизии про её бой с немецкой разведкой: «...Этот враг не просачивается с маленькой скоростью: он бежит, он скачет, создавая скорее впечатление спортивного соревнования, а не методичного продвижения под огнём противника... Его быстрота обескураживающа». Да, действия немецких войск во Франции напомнили в итоге именно спортивное состязание, на которое Германия выставила отменно натренированные, жаждущие реванша, хорошо обеспеченные и владеющие всеми элементами тактики «спортивные команды».
Сея разрушения и смерть, уничтожая массой огня или быстро маневрируя, эти «спортсмены» поставили на колени своего извечного и ошеломлённого их всесокрушающей быстротой «партнёра» в результате военной компании, длившейся всего-навсего... 46 дней. Произошедшее затем является наиболее сильной и незалеченной до сих пор исторической травмой Франции. Мифы же о том, что «они просто струсили и сдались», продолжают свою жизнь, не отделяя, к сожалению, массы настоящих трусов от массы не менее настоящих героев, честно исполнивших свой солдатский долг в столь стремительно промелькнувшей перед ними «войне нового типа».