Доброе Мировое Зло (Миф)
ВОСПРИЯТИЕ ВРЕМЕНИ В КОСМИЧЕСКОМ ПРОСТРАНСТВЕ
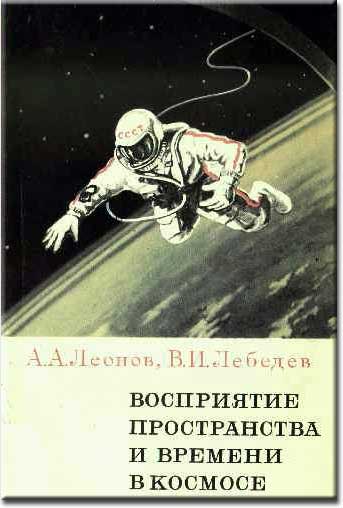
Восприятие времени и магнитные поля
Полетами советских «лунников» было установлено, что Луна не имеет заметного магнитного поля. Следовательно, при ориентации на местности лунных путешественников магнитные компасы, к которым мы так привыкли на Земле, окажутся непригодными. Космонавтам придется определять свое местоположение по небесным светилам или пользоваться приборами, действующими на иных принципах. Но главное даже не в этом. Главное в том, что на человека на Луне, а в ряде случаев и на других планетных телах и в межпланетном полете перестанет влиять магнитное поле.
Как известно, все живые существа, населяющие земной шар, развились и постоянно находятся под воздействием геомагнитного поля. Возникает вопрос, не скажется ля его отсутствие на физиологических и психологических функциях человека, и в частности на восприятии времени? Для ответа на этот вопрос попробуем обратиться к магнитобиологии, которая, правда, находится ныне еще в стадии становления.
Немецкие психоневрологи сравнительно давно обратили внимание на то обстоятельство, что в периоды магнитных бурь, когда напряженность геомагнитного поля начинает быстро меняться, увеличивается число нервно-психических больных. Эти данные были получены при изучении 40 тысяч историй болезни, охватывающих пятилетие (1930–1935 гг.). Такие же исследования провели в 60-х годах в США статистической обработкой 29 тысяч случаев нервно-психических заболеваний, охватывающих четырехлетние, причем данный материал сопоставлялся с еженедельными сведениями о напряженности магнитного поля Земли. И здесь подтвердилось, что в периоды магнитных бурь увеличивается число нервно-психических больных и их смертность.
Представляют большой интерес в этом плане также исследования В. Десятова, который проанализировал динамику самоубийств и автомобильных аварий с 1958 по 1964 г. в связи с мощными взрывами на Солнце. Последние вызывают очень сильные магнитные бури на Земле. «Оказывается, — пишет Десятов, — люди со слабым типом нервной системы, а также хронические алкоголики после взрывов на Солнце чувствуют себя крайне подавленными. В результате число самоубийств на вторые сутки после солнечных взрывов возрастает в 4 — 5 раз по сравнению с днями спокойного Солнца. Поводы для самоубийств, которые в дни спокойного Солнца кажутся несущественными, в дни после солнечных взрывов представляются подчас непреодолимыми.
Число автомобильных аварий во второй день после солнечных вспышек также возрастает — почти в 4 раза по сравнению с днями спокойного Солнца».
читать дальше
Наблюдения подобного рода привлекают к себе все большее внимание ученых. В научной литературе имеется в настоящее время довольно значительное количество сведений я о влиянии электромагнитных волн различной длины на центральную нервную систему животных и человека, а также на внутриклеточные белковые молекулы. Так, американские исследователи подвергали испытуемых воздействию сантиметровых радиоволн. При облучении височной части головы обследуемые начинали слышать звуки, которые локализовались ими в области затылка. При воздействии метровыми волнами на обезьяну отмечалось резкое изменение в ее поведении: вначале животное настораживалось, затем впадало в сон, но через некоторое время пробуждалось в возбужденном состоянии. Муравьи, помещенные в зону трехсантиметровых волн, начинают ориентировать свои усики-антенны параллельно магнитным силовым линиям
Большое количество опытов с различными животными убедительно показало, что электромагнитные поля влияют на нервную систему и вызывают различные физиологические и поведенческие реакции. В этих же экспериментах было выявлено, что в ряде случаев такие реакции мало зависят от энергетических характеристик
воздействующего поля.
Как же влияет электромагнитное поле на психофизиологические реакции животных и человека, в частности на восприятие времени? Ответить на такой вопрос пока можно только предположительно.
Разбирая физиологический механизм условного рефлекса на время, И. П. Павлов писал: «Как понимать физиологически время в качестве условного раздражителя? На это, конечно, точного, определенного ответа пока дать нельзя. Но к известному пониманию этого подойти можно. Как мы вообще отмечаем время? Мы делаем это при помощи разных циклических явлений: захода и восхода Солнца, движения стрелок по циферблату часов и т.д. Но ведь у нас в теле этих циклических явлений тоже немало. Головной мозг за день получает раздражения, утомляется, затем восстанавливается. Пищеварительный канал периодически то занят пищей, то освобождается от нее и т.д. И так как каждое состояние органа может отражаться на больших полушариях, то вот и основание, чтобы отличать один момент времени от другого. Возьмем короткие промежутки времени. Когда раздражение только что нанесено, оно чувствуется очень резко. Когда мы входим в комнату с каким-либо запахом, то мы сначала ощущаем его очень сильно, а затем все меньше и меньше. Состояние нервной клетки под влиянием раздражения испытывает ряд изменений. Точно так же и в обратном случае. Когда раздражитель прекращается, то сначала он чувствуется еще очень резко, а затем все бледнее и бледнее, и, наконец, мы совсем его не замечаем. Значит, опять имеется ряд различных состояний нервной системы. С этой точки зрения можно понять как случаи рефлексов на перерыв раздражителя и следовых рефлексов, так и случаи рефлекса на время. В приведенном опыте животное периодически подкармливалось, ряд органов в связи с этим проделывал определенную деятельность, т.е. переживал ряд определенных последовательных изменений. Все это давало себя знать в больших полушариях, рецептировалось ими, и условным раздражителем делался определенный момент этих изменений» (1951–1952, стр. 57).
Таким образом, циклические явления в различных местах организма могут явиться как бы биологическими часами, позволяющими животным «отмерять» те или другие промежутки времени. Это тем более так, что изолированные органы и ткани действительно сохраняют в определенных условиях автономный ритм деятельности (скажем, извлеченное сердце продолжает ритмические сокращения с определенной частотой и т.д., о чем подробнее речь будет впереди). Все эти различные ритмы в организме синхронизированы. На уровне высших животных таким синхронизирующим и регулирующим аппаратом является центральная нервная система.
М. Брейзе высказала предположение о том, что роль синхронизатора протекания всех процессов в самой центральной нервной системе выполняет ритмическая активность мозга, сопровождающаяся определенными биоэлектрическими явлениями. По мнению многих электрофизиологов (Винера, Гудди, Голубарга, Энлайкера и др.), эта ритмическая активность, по-видимому, и есть эталон времени некоего ритма, с которым сравниваются периодики сердечной деятельности, дыхания, двигательных актов и т.п. Не случайно в электроэнцефалограмме имеются характеристики, известные под названием стационарных временных рядов. Не исключена также возможность, что изменение ритмической активности мозга приводит к сдвигам в восприятии времени, а соответственно своих движений и движений окружающих.
Г. Уэллс в фантастической повести «Новейший ускоритель» нарисовал картину изменения движений своих героев и восприятия ими окружающей обстановки во времени. Но нечто подобное действительно можно встретить при некоторых заболеваниях центральной нервной системы, при приеме некоторых фармакологических средств и при воздействии необычных раздражителей на человека. Характерны в этом плане результаты наблюдений Э. М. Башковой и Е. М. Захарьянца за одним мальчиком в возрасте 12 лет, который ранее не страдал какими-либо отклонениями в области психики. После приступа малярии у него появился ряд своеобразных изменений в сенсорной сфере. Все предметы стали казаться больному значительно меньшими по величине. Скорость он начал воспринимать неправильно: все ему представлялось совершающимся быстрее (люди, например, не шли, а бежали). Поэтому сам он стал делать все очень быстро. После лечения хининам указанные явления исчезли.
В различных исследованиях установлено, что на поверхности тела животных и человека имеются электрические потенциалы, распределяющиеся по определенному закону. Это распределение, по мнению Р. Беккера, обусловлено направленностью потока электронов по ходу нервных волокон. Была также высказана мысль, что система биоэлектрических потенциалов может взаимодействовать с колебаниями магнитного поля Земли. Эта гипотеза подтверждается, в частности, в опытах на улитках американского биолога Ф. Брауна, который доказал, что поведение последних в значительной степени зависит от изменения геомагнитной обстановки.
Как известно, магнитное поле Земли «пульсирует» с частотой от 8 до 16 колебаний в секунду. Основываясь на этом факте, некоторые ученые высказали предположение, что именно с влиянием такой пульсации связано наличие основного ритма биопотенциалов головного мозга — альфа-ритма, имеющего ту же частоту. Кроме того, советский ученый А. Пресман считает, что периодически изменяющееся геомагнитное поле является источником некоторой информации. С этой точки зрения увеличение количества, например, нервно-психических больных в периоды магнитных бурь объясняется следующим образом. Хаотически изменяющаяся частота колебаний магнитного доля Земли может навязать биологическим процессам несвойственные им ритмы, т.е. ввести в организм, по выражению Пресмана, «вредную» информацию. У здорового человека нервная система хорошо адаптируется к изменениям окружающей среды. Но при нервном истощении или заболеваниях она становится чрезмерно чувствительной к воздействиям извне. Ослабленная нервная система не справляется с возросшей нагрузкой (в том числе из-за пертурбаций геомагнитного поля) и в результате возникает нервное расстройство или происходит обострение ранее имевшейся болезни.
Одним из авторов (В. И. Лебедевым) было высказано предположение, что изменение частоты ритма биопотенциалов головного мозга может влиять на субъективную оценку временных интервалов. Об этом свидетельствуют специально проведенные нами эксперименты (В. П. Лебедев, О. Н. Кузнецов, А. Н. Лицов, Р. Б. Богдашевский).
У испытуемых по электроэнцефалограмме уточнялась частота альфа-ритма. С той же частотой подавались различные раздражители (световые или звуковые). До этого на фоне неизмененной электроэнцефалограммы испытуемые по сигналу воспроизводили временные отрезки. Точность воспроизведения регистрировалась на лентопротяжном устройстве. Затем с помощью указанных раздражителей ритм биопотенциалов головного мозга учащался или замедлялся. На таком измененном фоне испытуемые тоже воспроизводили временные отрезки. И вот оказалось, что при учащении ритма биотоков мозга обследуемые недооценивали временной интервал, а при замедлении — переоценивали. Так, один из испытуемых 20 — секундный промежуток воспроизвел соответственно за 18,2 и за 21,6 сек. Особенно страдала оценка временных интервалов при «сбоях», когда в самом ходе оценки врач, применяя раздражители, начинал изменять (то плавно, то резко) частоту альфа-ритма. Однако при введении коррекции ошибок обследуемые начинали точно воспроизводить временные отрезки и при измененном ритме биотоков мозга.
Из всего сказанного можно, на наш взгляд, заключить следующее. На нервную систему животных и человека влияют каким-то образом физические поля, в том числе и геомагнитное поле. Весьма вероятно, что с пульсацией последнего связана работа «биологических часов» организма, с ритмом которых соотносятся физиологические процессы. В таком случае нельзя не учитывать проблем, которые возникнут при выходе космонавтов за пределы земной магнитосферы. Отсутствие заметных магнитных полей на Луне и некоторых других небесных телах, прохождение при космических полетах участков с мощными магнитными полями, встреча с иными по сравнению с привычными на Земле ритмами магнитных явлений в космосе — все это может так или иначе повлиять на деятельность «биологических часов», а значит и на течение психофизиологических процессов человеческого организма. Сейчас трудно сказать, какова будет степень такого влияния и в чем оно выразится. Может быть, окажется реальной угроза разлаживания «биологических часов» и возникновения соответствующих серьезных расстройств психофизиологических функций. Тогда придется изыскивать пути и средства глубокого вмешательства в самые интимные внутриорганизменные процессы с целью искусственного их регулирования в нужном направлении, несмотря на неблагоприятную ситуацию. А может быть подобного разлаживания не произойдет, поскольку в процессе эволюции земной жизни выработались стойкие ритмы биохимических реакций, которые смогут в той или иной мере «справиться» с нарушениями ритмики в электрофизиологической области. Тогда дело может ограничиться лишь частными сдвигами в работе «биологических часов», сравнительно легко преодолимыми. B конечном итоге, как бы там ни было, ныне становится все более ясным, что обстоятельное изучение воздействия геомагнитного поля и его изменений, а также влияния амагнитной среды на человеческий организм (и на отражение человеком внешнего мира) включается логикой развития науки в повестку дня.
В процессе эволюционного развития у растений и животных выработались физиологические приспособления к периодическим геофизическим и метеорологическим изменениям, связанным с вращением Земли вокруг своей оси и вокруг Солнца (к наступлению светлого периода суток и темноты, повышению температуры и увеличению космической радиации в дневное время, изменению влажности и барометрического давления воздуха в ночное время, смене времен года и т.д.). Одним из наиболее характерных таких приспособлений является суточный ритм сна и бодрствования. При этом обнаруживается снижение температуры тела, пульса и дыхания, обменных процессов и других физиологических функций организма ночью и повышение их днем.
Даже такие явления, как рождение и смерть, подчиняются суточной периодичности. По данным Ф. Халберга, наибольшее их количество падает на время между 23–01 часами.
В орбитальном полете смена дня и ночи может быть очень частой. Так, Г. С. Титов в течение суток встретил 17 «космических зорь». В межпланетном же полете, который может продолжаться многие месяцы и даже годы, вообще не будет наблюдаться столь привычной для жизни на Земле суточной (и сезонной) периодики. Наконец, при высадке на то или другое небесное тело чередование дня и ночи также окажется существенно отличным от земного (на Луне, например, сутки длятся почти
месяц по земному счету). С другой стороны, космонавтам придется нести полетную вахту, вести научные исследования, поддерживать связь с Землей и т.д., для чего нужна определенная организация труда и отдыха во времени. В связи со всем этим
возникают проблемы влияния нарушений привычной земной рит мики на психофизиологические функции человека и создания нового оптимального ритма жизнедеятельности на межпланетном космическом корабле.
В 1729 г. астрономом де Мераном, которого особенно интересовало вращение Земли вокруг своей оси, было сделано открытие. Он обнаружил, что у растений, выдерживаемых в темноте и при постоянной температуре, наблюдается такая же периодичность движения листьев, как и у растений, выдерживаемых в условиях чередования света и темноты. Эксперименты подобного рода были продолжены в последующие годы над совершенно различными организмами — от одноклеточных до человека. В результате удалось установить, что даже простейшие живые существа, помещенные в условия постоянного освещения (или темноты), сохраняют ритм колебаний активности и покоя, роста, деления и т.д., приближающийся к 24-часовому циклу. Ритмы с таким периодом Ф. Халберг назвал «циркадными» (от латинских слов: «circo»-около и «dies»-день).
Так, серия опытов была поставлена с белкой-летягой, ведущей ночной образ жизни. Животных помещали в клетку с беличьим колесом, снабженным устройством для записи числа оборотов, и держали в полной темноте несколько месяцев. Графики активности летяг, полученные с помощью колеса, со всей очевидностью показали, что белки оживлялись каждый вечер. Беготня в колесе начиналась всякий раз через один и тот же промежуток времени, примерно равный суткам.
В серии экспериментов на мышах было установлено, что у шести поколений этих животных, непрерывно выдерживаемых при свете, сохраняется одна и та же спонтанная частота колебаний физиологических функций (двигательной активности, фаз сна и бодрствования и др.), приближающаяся к циркадному ритму. Небезынтересно сообщение Бюнинга о циркадных колебаниях, которые сохранялись в изолированной петле кишечника хомяка, помещенной в физиологический раствор. Имеются также данные о циркадной периодичности клеточного деления в тканевых культурах млекопитающих.
Таким образом, по современным научным представлениям, у всех видов растений и животных, помещенных в так называемые постоянные условия, проявляется физиологическая ритмичность циркадного типа. С этим фактором и связана идея о существовании в организмах «биологических часов», от которых зависит регулирование физиологических процессов.
В основе регуляции самих циркадных ритмов большей части одноклеточных организмов и растений лежат, очевидно, внутриклеточные биохимические процессы. Их ритмичность выработалась в многомиллионнолетнем приспособлении к суточной периодичности дня и ночи на нашей планете. Здесь мы хотели бы лишь подчеркнуть, что у растений нет центральных механизмов, которые бы управляли всеми циркадными ритмами.
Немецкий ученый Г. Клюк в специальных экспериментах показал, что у червей, членистоногих и других беспозвоночных регуляция суточной ритмики физиологических функций осуществляется нервной системой, в частности подглоточным ганглием.
Наиболее четкие данные о центре, управляющем ритмом двигательной активности в течение суток, были получены английской исследовательницей Жанет Харкер в опытах с тараканами — типичными ночными насекомыми. Оказалось, что у этих насекомых роль главных «биологических часов» выполняет подглоточный ганглий, выделяющий определенные химические вещества. Так, у тараканов, ранее находившихся в условиях непрерывного освещения и потерявших заметно выраженный ритм двигательной активности, удалялся собственный подглоточный нервный узел и заменялся другим ганглием, взятым от ритмически активной особи. Через несколько дней активность оперированного насекомого становилась четко ритмичной, причем этот ритм соответствовал ритму таракана-донора.
Особенно замысловаты физиологические механизмы циркадного ритма у высших позвоночных животных. Здесь обнаруживаются и более простые регуляторы, имеющие тесную связь с обменом веществ, и учет более сложных временных отношений, которые координируются корой больших полушарий. При этом суточная периодичности сна и бодрствования сохраняется у животных и после удаления коры. Точно так же остается и суточная ритмика колебаний температуры тела, обменных процессов, частоты пульса, кровяного давления, дыхания и других вегетативных функций. Отсюда следует, что поддержание циркадных ритмов относится к сфере безусловнорефлекторной деятельности, которая более устойчива к случайным колебаниям внешней среды, а центры циркадной регуляции находятся в подкорковых образованиях и в стволовой части головного мозга.
Из обыденной жизни известно, что некоторые люди обладают удивительной способностью чувствовать время. Они точно и безошибочно определяют час дня, хорошо различают временные промежутки, длительность пауз и т. д. Поскольку космонавты в межпланетном полете будут находиться, как правило, в постоянных
условиях, но без привычных геофизических воздействий, возникает вопрос, в какой степени человек сможет оценивать циркадную ритмику физиологических процессов, т.е. пользоваться «биологическими часами» в такой ситуации.
В отмеченном плане представляют большой научный интерес наблюдения за членами экспедиций, находящихся в Арктике, где такой фактор, как восход и заход солнца в течение суток, отсутствует. Из результатов, полученных М. Лоббаном, который проводил исследования на Шпицбергене в период полярного дня, явствует, что непрерывное двухмесячное дневное освещение не действует заметным образом на циркадную ритмику физиологических процессов людей, прибывших из средних широт.
Для имитации межпланетного полета используются, как известно, сурдокамеры. Они позволяют не только устранять некоторые геофизические факторы (смену светлого периода суток ночью, природный шум, перепады температуры и влажности воздуха, колебания радиации и т.д.), но и в какой-то мере исключать влияние социального окружения.
В сурдокамере Ф. Д. Горбов провел следующий опыт. Испытуемый знал о продолжительности эксперимента (7 суток), но у него не было часов для контроля за временем и отсутствовал распорядок дня. По инструкции он мог, когда хотел, ложиться спать, есть, вести записи в дневнике, заниматься гимнастикой и т.п. Через несколько суток испытуемый дезориентировался во времени, что было видно из его отчетов по радиопереговорному устройству. По представлению обследуемого время текло медленнее, чем на самом деле. Так, он подготовился к выходу из сурдокамеры на 14 час. раньше намеченного срока.
А. Ашофф в своем опыте помещал группу испытуемых в специально оборудованный бункер, находящийся глубоко под землей, что исключало проникновение звуков. Обследуемые лица сами готовили пищу и были полностью предоставлены самим себе.
Они гасили свет перед сном и включали его при пробуждении. За испытуемыми с помощью специальной аппаратуры велось постоянное наблюдение с регистрацией физиологических функций. За 18 суток обследуемые «отстали» от астрономического времени на 32,5 часа, т.е. их сутки состояли не из 24, а почти из 26 часов. В этом ритме к концу эксперимента у испытуемых и наблюдалось колебание всех физиологических функций.
Интересны также опыты французских спелеологов, которые вместо сурдокамеры использовали глубокие пещеры. Так, в 1962 г. Мишель Сиффр провел в одной из пещер 2 месяца. Из его отчета явствует, что в условиях одиночества и отсутствия связи с внешним миром для экспериментатора вскоре «распалась связь времени…»
Через 1000 час. (более 40 суток) ему казалось, что прошло всего лишь 25 суток. А когда необычный эксперимент закончился и друзья пришли за Сиффром, он заявил: «Если бы я знал, что конец так близок, я бы давно съел оставшиеся помидоры и фрукты».
3 года спустя опыт повторили еще двое ученых — Антуан Сонни и женщина — спелеолог Жози Лорез. Шесть месяцев провел под землей молодой французский спелеолог Жан-Пьер Мерете. Однако материалов, относящихся к восприятию времени и суточной ритмике в этих экспериментах, нам найти не удалось.
В 1967 г. восьмерка венгерских исследователей провела под землей в одной из пещер Будайских гор ровно месяц. Члены экспедиции не имели ни часов, ни радиоприемника. И когда они получили по телефону приказ подняться на поверхность, то оказалось, что подсчеты времени, произведенные в пещере, на четверо суток отстали от действительности. При этом «биологические часы» первые 10 дней у всех членов экспедиции вели себя синхронно, а потом во временной ориентации начались расхождения.
Из сказанного можно заключить, что хотя физиологические процессы человека при постоянных условиях продолжают сохранять какое-то время циркадную ритмичность, однако ориентация без «времядатчиков» становится нереальной.
Учитывая сказанное выше о циркадных ритмах психофизиологических процессов, казалось бы было целесообразным в длительных межпланетных полетах сохранить для членов экипажа привычную ритмику земных суток. Но, по всей вероятности, это будет невозможно.
Мы уже говорили, что в длительном полете люди при управлении межпланетным кораблем будут включены в систему «человек — автомат». Главной функцией оператора в этой системе при ее нормальной работе является наблюдение за показаниями приборов. Деятельность космонавта, однако, будет отличаться от обычной операторской деятельности, скажем, на пульте управления современной электростанцией. Оператор космического корабля должен выполнять параллельно несколько управленческих функций, которые могут быть связаны с весьма далекими друг от друга областями науки и техники. Например, контроль за работой аппаратуры замкнутого или полузамкнутого экологического цикла требует биологических знаний, а контроль за режимом и траекторией полета — астрономических и навигационных знаний. В общем виде функции оператора-космонавта будут в основном заключаться в компенсирующем слежении по многим индикаторам, операциях контроля за величинами регулируемых параметров объекта, математической и логической обработке поступающей от приборов и сигнализаторов информации, обобщении результатов контроля я сравнении их с программой, выработке решения по управлению объектом и реализации этого решения.
Необходимо подчеркнуть, что в длительном космическом полете отнюдь не исключена возможность выхода из строя тех или иных устройств и систем, возможность возникновения непредвиденных осложнений, которые потребуют от космонавта экстренного перехода от наблюдения к действиям. Практически вообще немыслимо предусмотреть все варианты отклонений в режиме работы механизмов, все неисправности и аварийные ситуации. Только разумными мероприятиями человека, обладающего большими знаниями и опытом, можно своевременно справиться с неожиданностями и случайностями. Поэтому космонавт, несущий вахту, всегда должен будет находиться в состоянии высокой готовности к действию. От степени такой готовности прямо зависит эффективность вмешательства человека в ход событий. Говоря языком кибернетики, оператор-космопавт должен выполнять роль «ждущей схемы». Именно готовность к действию является важным фактором надежности человека как звена в системе «человек-автомат», обусловливает насущную необходимость несения вахты членами экипажа межпланетного корабля.
Здесь сразу же возникает вопрос: как долго космонавт, несущий вахту, может находиться в состоянии достаточной готовности л действию, или другими словами, когда у него разовьется утомление, которое может отразиться на качестве операторской деятельности? В настоящее время с полной определенностью ответить на этот вопрос невозможно. Однако, используя данные, накопленные физиологией и психологией труда, ученые уже сейчас ищут пути к определению оптимального времени несения вахты в космическом полете.
Характеризуя трудовой процесс, К. Маркс писал: «Кроме напряжения тех органов, которыми выполняется труд, во все время труда необходима целесообразная воля, выражающаяся во внимании, и притом необходима тем более, чем меньше труд увлекает рабочего своим содержанием и способом исполнения…» (Капитал, т. I, стр. 185). Из различных качеств внимания к наиболее профессионально значимым относятся: интенсивность (точнее, сосредоточенность), устойчивость, быстрота переключения и широта распределения. Само оно «обусловлено такой организацией деятельности, при которой определенные восприятия, мысли или чувства нами сознаются отчетливо,— в то время как другие отходят на второй план или вовсе сознательно не воспринимаются» (К. К. Платонов, 1962, стр. 41).
Профессии оператора в автоматических системах свойственна именно высокая интенсивность внимания почти на всем протяжении несения вахты. Двигательные акты имеют для этой профессии гораздо меньшее значение. Но еще К. Маркс отмечал, что «непрерывная монотонность работы ослабляет напряженность внимания и подъем энергии, так как лишает рабочего того отдыха и возбуждения, которые создаются самым фактом перемены деятельности» (Капитал, т. I, стр. 348). Эта мысль нашла подтверждение в специально проведенных экспериментах и при исследовании протекания трудовых процессов у лиц так называемых наблюдательных профессий.
Например, по В. В. Суворовой, Ю. В. Идашкину и С. С. Гаджиеву, опыт дежурств на современных автоматизированных электростанциях показывает, что даже такие на первый взгляд легкие дежурства, в течение которых персонал не производил никаких операций, а был занят исключительно надзором и ожиданием каких-либо аварийных нарушений, приводят к исключительно сильному нервному напряжению. По окончании смены операторы оказываются не в состоянии осуществлять какую-либо умственную деятельность, плохо спят, у них резко повышается раздражительность и т.д. Многочисленные данные советских и зарубежных ученых свидетельствуют о том, что через 5–6 час. наблюдения даже при нормальной работе автоматических устройств бдительность человека постепенно снижается. Соответственно уменьшается его надежность как звена в системе «человек — автомат». Исследователями также отмечается, что на процесс утомления большое влияние оказывают отрицательные эмоции.
Если учесть, что на космонавта будет действовать ряд неблагоприятных факторов (в том числе и большая продолжительность полета), то, видимо, утомление на космической вахте будет развиваться раньше, чем через 5–6 часов. Следовательно, наиболее оптимальным временем работы в этих условиях явится срок, не превышающий четырех часов (с обязательным предварительным отдыхом и сном). Такой вывод в какой-то мере подтверждается практикой длительных автономных плаваний подводных лодок, когда моряки несут каждый четырехчасовую вахту.
В первых межпланетных полетах число членов экипажа будет, надо полагать, невелико. Поэтому организовать несение четырехчасовой вахты в течение земных суток будет трудно (если вообще возможно). Выход из такой ситуации мыслим по линии изменения продолжительности суток, изменения ритма жизнедеятельности людей на межпланетном корабле.
Обратимся прежде всего к фактам, полученным гигиеной труда и связанным с влиянием работы при различных распорядках дня на психофизиологические процессы. В. П. Соловьева и Г. М. Гамбашидзе провели наблюдения за работниками метрополитена, которые длительное время (от 6 до 22 лет) выходили только в ночную смену. Исследовались температура тела, частота пульса, кровяное давление, устойчивость внимания и другие психофизиологические явления. В результате выяснилось, что, несмотря на многолетний стаж работы исключительно в ночное время, почти у всех обследуемых не произошло перестройки суточного ритма физиологических функций. Изменения последних носили синусоидальный характер с максимумом днем (в 12 — 16 час.), т.е. когда наблюдаемые отдыхали, и минимумом ночью (в 02 — 04 часа), т.е. когда наблюдаемые работали. Иными словами, их кривые в основном совпадали с известными классическими кривыми, подученными у людей с обычным режимом сна и бодрствования.
Для выявления психофизиологических сдвигов под влиянием восьмичасовой работы в ночную, вечернюю и дневную смены у линотипистов Г. П. Волхина и Р. И. Крюк изучали состояние их внимания по методу корректурных таблиц. Определялись также пороговая чувствительность слуха и другие функции организма. Оказалось, что наиболее низкие данные по перечисленным методикам были получены в ночную смену, наиболее высокие — в дневную, а функциональные сдвиги в вечернюю смену занимали промежуточное положение. Короче говоря, и в этом случае не происходило перестройки психофизиологических функций из-за ночной работы.
Э. И. Брантом и О. И. Марголиной были обследованы бригады локомотивов и кондукторские бригады, сопровождающие товарные поезда. У людей этого профиля сутки раздроблены последовательным чередованием сна и работы, причем без строгого графика (или по разным графикам). Иными словами, здесь налицо типичный пример нарушения суточного стереотипа. Наблюдения показали, что в течение ряда лет такого необычного чередования работы и отдыха организм приспосабливается к отсутствию постоянного режима. Это приспособление выражается в способности рабочих локомотивных и кондукторских бригад быстро засыпать в любое время суток, даже тогда, когда дневному сну при отдыхе на станции «оборота» предшествовал нормальный ночной сон дома. Однако и такая ситуация не изменяет обычных кривых суточных колебаний физиологических функций.
Как видим, геофизические факторы (дневной свет и т.д.), а также социальное окружение (ритм жизни семьи, работа государственных, увеселительных и других учреждений) имеют для человека гораздо большее значение, чем собственный ритм работы, отдыха, приема пищи и т.п.
Очень важную роль в осуществлении физиологических функций играет мышление, которое позволяет определять отношение к текущему моменту суток (окажем, в освещенном метрополитене ночью).
Здесь уместно напомнить о результатах наблюдений за лицами, совершившими перелеты в другие районы Земли со сдвигом времени в 6 — 12 час. Под влиянием смещенного ритма геофизических факторов и жизни окружающих людей у этих лиц в течение нескольких дней (обычно не более 15) происходит перестройка всех физиологических процессов применительно к новым условиям существования. Между тем при измененном режиме суток, но в привычной среде такая перестройка, как мы уже видели, не наблюдается даже в течение многих лет.
Большое количество экспериментов свидетельствует о том, что на перестройку ритма физиологических функций растений и животных основное воздействие оказывают свет и температура. Хотя живые организмы и способны поддерживать циркадную ритмику, это вовсе не означает неизбежность сохранения постоянной ее частоты при любых условиях жизни. Ведь организм — «открытая система», он все время находится под влиянием окружающей среды и приспосабливается к ее изменениям. В частности, такие факторы, как свет и температурные воздействия, служат в условиях Земли своеобразными датчиками времени. Они являются как бы сигналами для синхронизации циркадного ритма физиологических функций с астрономическим временем.
Еще И. П. Павлов показал, что чем выше организовано животное, тем быстрее и лучше оно приспосабливается к изменяющимся условиям внешней среды. Такое приспособление совершается посредством образования временных связей в коре головного мозга. Именно с помощью механизма условных рефлексов происходит подлаживание к изменяющейся ситуации также безусловнорефлекторной деятельности, к которой относится и циркадная ритмика физиологических функций. «Самая общая характеристика живого существа, — писал Павлов, — состоит в том, что живое существо отвечает своей определенной специфической деятельностью не только на те внешние раздражения, связь с которыми существует готовой со дня рождения, но и на многие другие раздражения, связь с которыми развивается в течение индивидуального существования, иначе говоря, что живое существо обладает способностью приспосабливаться» (1951–1952, т. 3, стр. 77–78).
Весьма ценны для изучения приспособления физиологических функций высших животных к измененным ритмам жизнедеятельности опыты О. П. Щербаковой, проведенные на обезьянах. Эксперименты осуществлялись в течение года в специально оборудованном домике с искусственным освещением. Изучались физиологические функции при двухфазном, укороченном, удлиненном и других суточных режимах. Оказалось, например, что при установлении двухфазного суточного ритма у большинства обезьян уже на третий день возникает соответствующий ритм двигательной активности, а затем, на 6 — 13-й день, образуется двухфазность в температурной кривой, в частоте пульса, дыхания, в динамике других физиологических процессов.
С развитием космической техники в Советском Союзе и за рубежом были начаты эксперименты по изучению различных режимов суточной деятельности в условиях, имитирующих космический полет. У нас пионером в этой области явился коллектив ученых, возглавленный Ф. Д. Горбовым.
Нами (0. Н. Кузнецов, В. И. Лебедев, А. Н. Липов) были проведены опыты в условиях сурдокамеры по изучению «перевернутого» (бодрствование в ночное время, а сон — в дневное), дробного и других режимов. Исследование осуществлялось при полном одиночестве, изоляции от внешних световых и звуковых раздражителей, отсутствии двухсторонней речевой связи. В эксперименте участвовали мужчины в возрасте от 26 до 38 лет, прошедшие полное клиническое обследование. У испытуемых был строго регламентированный распорядок дня, который включал выполнение операторской деятельности, активный отдых и сон. При двухфазном ритме обследуемые занимались всем этим дважды в сутки, при трехфазном — трижды.
В результате экспериментов выяснилось, что чем больше отклоняется режим жизнедеятельности человека от привычного, тем тяжелее это переносится. Особенно трудным оказался трехфазный ритм. Вообще при смене обычного режима новым у испытуемых на вторые — пятые сутки восстанавливается исходный уровень работоспособности и они начинают засыпать в отведенные новым распорядком часы. Но соответственная перестройка вегетативных функций (пульс, дыхание, температура тела, обменные процессы и др.) наступает лишь на 8 — 15-й день и не всегда полностью заканчивается даже к концу пятнадцатых суток. Из всех измененных режимов, изучавшихся Горбовым и нами, наиболее приемлем, по-видимому, дробный с двухфазным сном. Однако у всех испытуемых при этом ритме субъективно не отмечалось законченности каждого цикла. Они продолжали отсчитывать время обычными земными сутками. По всей вероятности, и на межпланетном корабле будет бортовое и московское время. В какой-то степени с подобной системой отсчета сталкиваются многие люди на нашей планете и ныне. Например, обитатели Владивостока, живя по местному (поясному) времени, при необходимости соотносят его с московским временем.
В целом, если для животных при перестройке суточного режима основное значение имеют физические воздействия (свет, температура и др.), то для человека, как справедливо подчеркивает 0. Н. Кузнецов, существенной оказывается психическая деятельность, волевая направленность на выполнение распорядка дня, умение быстро переорганизоваться в соответствии с изменением ситуации. Нами было установлено, что приспособление физиологических функций к новому ритму особенно затруднялось у тех людей, которые постоянно старались представить себе, что происходит в текущий момент суток вне камеры.
Надо полагать, что при разработке распорядка дня для каждого конкретного межпланетного полета будут учитываться число членов экипажа, объем работы, наличие помещений для отдыха и т.д. Не исключена возможность, что ритм космических суток будет выглядеть примерно так: 4 часа операторской деятельности, 4 часа активного отдыха и 4 часа сна. В период активного отдыха космонавты не ограничатся физическими тренировками. Для ликвидации утомления необходима рационально организованная смена вида деятельности. Поэтому, вероятно, часть времени после несения вахты у космонавтов будет занята научными экспериментами, обобщением полученных результатов и т.д.
Большое значение для восстановления работоспособности имеет смена эмоционального состояния. И. М. Сеченов указывал, что важными факторами здесь могут быть оживление настроения, музыка и т. п. Космонавты, безусловно, будут просматривать специально подобранные цветные фильмы, слушать музыкальные произведения, записанные на пленку, читать книги. Весьма существенную роль сыграют радио и сверхдальнее телевидение. С помощью этих средств космонавты смогут постоянно следить за жизнью на Земле, «бывать» в театрах, кино, на стадионах, общаться с родственниками и друзьями.
Важно, чтобы все члены экипажа (или, по крайней мере, большинство) прием пищи осуществляли одновременно, и чтобы их активный отдых протекал, как правило, не в одиночестве. Внутриколлективные контакты не только в процессе работы, но и в свободное время будут благотворно сказываться на тонусе нервной системы, на настроении космонавтов.
Напряженная работа головного мозга в часы бодрствования, его постоянное реагирование на бесчисленные раздражители внешней среды, как известно, приводят к истощению многие клетки коры головного мозга. Восстановление их работоспособности происходит в период сна. Вот почему на межпланетном корабле необходимо будет создать условия для полноценного сна космонавтов.
Опыт восьмисуточного полета американского корабля «Джеминай-5» показал, что спать по очереди в рабочем помещении весьма трудно. Космонавты Г. Купер и Ч. Кондрад, осуществлявшие такой распорядок она, жаловались на то, что малейший шум, даже перелистывание бортового журнала, будил их, поскольку в кабине было вообще-то очень тихо. Отсюда необходимость специального помещения-спальни на межпланетном корабле. Если все же в него будут проникать мешающие сну звуки, то в таком случае мыслимо создание «звукового подпора», т.е. генерации монотонного шума или шума, напоминающего морской прибой, дождь с ветром и т. д. Этот шум заглушит нежелательные звуковые явления и поможет засыпанию. Но дело не только в специальном помещении и звуковой изоляции. Космонавты должны выработать в себе способность при необходимости быстро засыпать. Такая способность была обнаружена во время сурдокамерных испытаний, например, у Ю. А. Гагарина. Он показал умение расслабляться даже в короткие паузы, отведенные для отдыха, моментально засыпать и самостоятельно пробуждаться в заданный срок.
Как выявили наши исследования, четырехчасовой сон после 8 часов бодрствования позволяет в условиях сурдокамеры восстановить работоспособность человека полностью. Вместе с тем при организации распорядка на космическом корабле важно будет установить для каждого члена экипажа строго постоянные часы вахт, отдыха и сна. Несомненно, что дальнейшие эксперименты на Земле, а также опыт орбитальных полетов позволят уточнить и отработать оптимальные ритмы космических суток.
ЗАКЛЮЧЕНИЕ
К. Э. Циолковский еще на заре воздухоплавания писал: «Верю в блестящее будущее человечества, верю, что человечество не только наследует Землю, но и преобразует мир планет. Отсюда, из сферы Солнца, начнется расселение человечества по всей Вселенной. В этом я глубоко убежден. Это удел земного человека. Он должен преобразовать многие планетарные системы».
Научные предвидения основоположника космонавтики начинают сбываться в наши дни. Человечество готовится к преодолению все новых и новых рубежей в великом деле освоения космоса. Расширяется фронт возникающих здесь сложнейших научно-технических проблем, над решением которых трудятся тысячи и тысячи ученых, конструкторов, инженеров, техников и рабочих.
Одной из таких проблем является выяснение возможностей человека адекватно отражать пространство и время вне Земли. Мы попытались обобщить научный материал, относящийся лишь к некоторым сторонам этой проблемы. Здесь предстоит еще огромная исследовательская работа. Особняком стоят почти неизученные вопросы восприятия пространства и времени при полетах с околосветовыми скоростями. Но нет сомнения в том, что какие бы трудности ни ожидали людей, участвующих в штурме космоса, все препятствия будут преодолены, и космическое будущее человечества станет фактом.
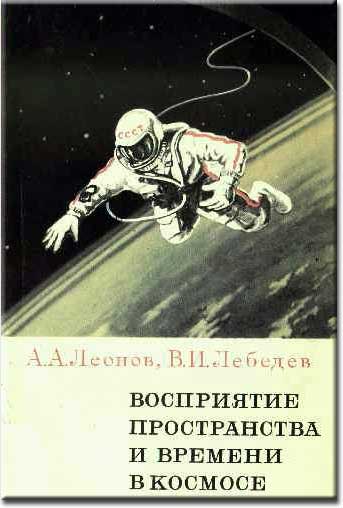
Восприятие времени и магнитные поля
Полетами советских «лунников» было установлено, что Луна не имеет заметного магнитного поля. Следовательно, при ориентации на местности лунных путешественников магнитные компасы, к которым мы так привыкли на Земле, окажутся непригодными. Космонавтам придется определять свое местоположение по небесным светилам или пользоваться приборами, действующими на иных принципах. Но главное даже не в этом. Главное в том, что на человека на Луне, а в ряде случаев и на других планетных телах и в межпланетном полете перестанет влиять магнитное поле.
Как известно, все живые существа, населяющие земной шар, развились и постоянно находятся под воздействием геомагнитного поля. Возникает вопрос, не скажется ля его отсутствие на физиологических и психологических функциях человека, и в частности на восприятии времени? Для ответа на этот вопрос попробуем обратиться к магнитобиологии, которая, правда, находится ныне еще в стадии становления.
Немецкие психоневрологи сравнительно давно обратили внимание на то обстоятельство, что в периоды магнитных бурь, когда напряженность геомагнитного поля начинает быстро меняться, увеличивается число нервно-психических больных. Эти данные были получены при изучении 40 тысяч историй болезни, охватывающих пятилетие (1930–1935 гг.). Такие же исследования провели в 60-х годах в США статистической обработкой 29 тысяч случаев нервно-психических заболеваний, охватывающих четырехлетние, причем данный материал сопоставлялся с еженедельными сведениями о напряженности магнитного поля Земли. И здесь подтвердилось, что в периоды магнитных бурь увеличивается число нервно-психических больных и их смертность.
Представляют большой интерес в этом плане также исследования В. Десятова, который проанализировал динамику самоубийств и автомобильных аварий с 1958 по 1964 г. в связи с мощными взрывами на Солнце. Последние вызывают очень сильные магнитные бури на Земле. «Оказывается, — пишет Десятов, — люди со слабым типом нервной системы, а также хронические алкоголики после взрывов на Солнце чувствуют себя крайне подавленными. В результате число самоубийств на вторые сутки после солнечных взрывов возрастает в 4 — 5 раз по сравнению с днями спокойного Солнца. Поводы для самоубийств, которые в дни спокойного Солнца кажутся несущественными, в дни после солнечных взрывов представляются подчас непреодолимыми.
Число автомобильных аварий во второй день после солнечных вспышек также возрастает — почти в 4 раза по сравнению с днями спокойного Солнца».
читать дальше
Наблюдения подобного рода привлекают к себе все большее внимание ученых. В научной литературе имеется в настоящее время довольно значительное количество сведений я о влиянии электромагнитных волн различной длины на центральную нервную систему животных и человека, а также на внутриклеточные белковые молекулы. Так, американские исследователи подвергали испытуемых воздействию сантиметровых радиоволн. При облучении височной части головы обследуемые начинали слышать звуки, которые локализовались ими в области затылка. При воздействии метровыми волнами на обезьяну отмечалось резкое изменение в ее поведении: вначале животное настораживалось, затем впадало в сон, но через некоторое время пробуждалось в возбужденном состоянии. Муравьи, помещенные в зону трехсантиметровых волн, начинают ориентировать свои усики-антенны параллельно магнитным силовым линиям
Большое количество опытов с различными животными убедительно показало, что электромагнитные поля влияют на нервную систему и вызывают различные физиологические и поведенческие реакции. В этих же экспериментах было выявлено, что в ряде случаев такие реакции мало зависят от энергетических характеристик
воздействующего поля.
Как же влияет электромагнитное поле на психофизиологические реакции животных и человека, в частности на восприятие времени? Ответить на такой вопрос пока можно только предположительно.
Разбирая физиологический механизм условного рефлекса на время, И. П. Павлов писал: «Как понимать физиологически время в качестве условного раздражителя? На это, конечно, точного, определенного ответа пока дать нельзя. Но к известному пониманию этого подойти можно. Как мы вообще отмечаем время? Мы делаем это при помощи разных циклических явлений: захода и восхода Солнца, движения стрелок по циферблату часов и т.д. Но ведь у нас в теле этих циклических явлений тоже немало. Головной мозг за день получает раздражения, утомляется, затем восстанавливается. Пищеварительный канал периодически то занят пищей, то освобождается от нее и т.д. И так как каждое состояние органа может отражаться на больших полушариях, то вот и основание, чтобы отличать один момент времени от другого. Возьмем короткие промежутки времени. Когда раздражение только что нанесено, оно чувствуется очень резко. Когда мы входим в комнату с каким-либо запахом, то мы сначала ощущаем его очень сильно, а затем все меньше и меньше. Состояние нервной клетки под влиянием раздражения испытывает ряд изменений. Точно так же и в обратном случае. Когда раздражитель прекращается, то сначала он чувствуется еще очень резко, а затем все бледнее и бледнее, и, наконец, мы совсем его не замечаем. Значит, опять имеется ряд различных состояний нервной системы. С этой точки зрения можно понять как случаи рефлексов на перерыв раздражителя и следовых рефлексов, так и случаи рефлекса на время. В приведенном опыте животное периодически подкармливалось, ряд органов в связи с этим проделывал определенную деятельность, т.е. переживал ряд определенных последовательных изменений. Все это давало себя знать в больших полушариях, рецептировалось ими, и условным раздражителем делался определенный момент этих изменений» (1951–1952, стр. 57).
Таким образом, циклические явления в различных местах организма могут явиться как бы биологическими часами, позволяющими животным «отмерять» те или другие промежутки времени. Это тем более так, что изолированные органы и ткани действительно сохраняют в определенных условиях автономный ритм деятельности (скажем, извлеченное сердце продолжает ритмические сокращения с определенной частотой и т.д., о чем подробнее речь будет впереди). Все эти различные ритмы в организме синхронизированы. На уровне высших животных таким синхронизирующим и регулирующим аппаратом является центральная нервная система.
М. Брейзе высказала предположение о том, что роль синхронизатора протекания всех процессов в самой центральной нервной системе выполняет ритмическая активность мозга, сопровождающаяся определенными биоэлектрическими явлениями. По мнению многих электрофизиологов (Винера, Гудди, Голубарга, Энлайкера и др.), эта ритмическая активность, по-видимому, и есть эталон времени некоего ритма, с которым сравниваются периодики сердечной деятельности, дыхания, двигательных актов и т.п. Не случайно в электроэнцефалограмме имеются характеристики, известные под названием стационарных временных рядов. Не исключена также возможность, что изменение ритмической активности мозга приводит к сдвигам в восприятии времени, а соответственно своих движений и движений окружающих.
Г. Уэллс в фантастической повести «Новейший ускоритель» нарисовал картину изменения движений своих героев и восприятия ими окружающей обстановки во времени. Но нечто подобное действительно можно встретить при некоторых заболеваниях центральной нервной системы, при приеме некоторых фармакологических средств и при воздействии необычных раздражителей на человека. Характерны в этом плане результаты наблюдений Э. М. Башковой и Е. М. Захарьянца за одним мальчиком в возрасте 12 лет, который ранее не страдал какими-либо отклонениями в области психики. После приступа малярии у него появился ряд своеобразных изменений в сенсорной сфере. Все предметы стали казаться больному значительно меньшими по величине. Скорость он начал воспринимать неправильно: все ему представлялось совершающимся быстрее (люди, например, не шли, а бежали). Поэтому сам он стал делать все очень быстро. После лечения хининам указанные явления исчезли.
В различных исследованиях установлено, что на поверхности тела животных и человека имеются электрические потенциалы, распределяющиеся по определенному закону. Это распределение, по мнению Р. Беккера, обусловлено направленностью потока электронов по ходу нервных волокон. Была также высказана мысль, что система биоэлектрических потенциалов может взаимодействовать с колебаниями магнитного поля Земли. Эта гипотеза подтверждается, в частности, в опытах на улитках американского биолога Ф. Брауна, который доказал, что поведение последних в значительной степени зависит от изменения геомагнитной обстановки.
Как известно, магнитное поле Земли «пульсирует» с частотой от 8 до 16 колебаний в секунду. Основываясь на этом факте, некоторые ученые высказали предположение, что именно с влиянием такой пульсации связано наличие основного ритма биопотенциалов головного мозга — альфа-ритма, имеющего ту же частоту. Кроме того, советский ученый А. Пресман считает, что периодически изменяющееся геомагнитное поле является источником некоторой информации. С этой точки зрения увеличение количества, например, нервно-психических больных в периоды магнитных бурь объясняется следующим образом. Хаотически изменяющаяся частота колебаний магнитного доля Земли может навязать биологическим процессам несвойственные им ритмы, т.е. ввести в организм, по выражению Пресмана, «вредную» информацию. У здорового человека нервная система хорошо адаптируется к изменениям окружающей среды. Но при нервном истощении или заболеваниях она становится чрезмерно чувствительной к воздействиям извне. Ослабленная нервная система не справляется с возросшей нагрузкой (в том числе из-за пертурбаций геомагнитного поля) и в результате возникает нервное расстройство или происходит обострение ранее имевшейся болезни.
Одним из авторов (В. И. Лебедевым) было высказано предположение, что изменение частоты ритма биопотенциалов головного мозга может влиять на субъективную оценку временных интервалов. Об этом свидетельствуют специально проведенные нами эксперименты (В. П. Лебедев, О. Н. Кузнецов, А. Н. Лицов, Р. Б. Богдашевский).
У испытуемых по электроэнцефалограмме уточнялась частота альфа-ритма. С той же частотой подавались различные раздражители (световые или звуковые). До этого на фоне неизмененной электроэнцефалограммы испытуемые по сигналу воспроизводили временные отрезки. Точность воспроизведения регистрировалась на лентопротяжном устройстве. Затем с помощью указанных раздражителей ритм биопотенциалов головного мозга учащался или замедлялся. На таком измененном фоне испытуемые тоже воспроизводили временные отрезки. И вот оказалось, что при учащении ритма биотоков мозга обследуемые недооценивали временной интервал, а при замедлении — переоценивали. Так, один из испытуемых 20 — секундный промежуток воспроизвел соответственно за 18,2 и за 21,6 сек. Особенно страдала оценка временных интервалов при «сбоях», когда в самом ходе оценки врач, применяя раздражители, начинал изменять (то плавно, то резко) частоту альфа-ритма. Однако при введении коррекции ошибок обследуемые начинали точно воспроизводить временные отрезки и при измененном ритме биотоков мозга.
Из всего сказанного можно, на наш взгляд, заключить следующее. На нервную систему животных и человека влияют каким-то образом физические поля, в том числе и геомагнитное поле. Весьма вероятно, что с пульсацией последнего связана работа «биологических часов» организма, с ритмом которых соотносятся физиологические процессы. В таком случае нельзя не учитывать проблем, которые возникнут при выходе космонавтов за пределы земной магнитосферы. Отсутствие заметных магнитных полей на Луне и некоторых других небесных телах, прохождение при космических полетах участков с мощными магнитными полями, встреча с иными по сравнению с привычными на Земле ритмами магнитных явлений в космосе — все это может так или иначе повлиять на деятельность «биологических часов», а значит и на течение психофизиологических процессов человеческого организма. Сейчас трудно сказать, какова будет степень такого влияния и в чем оно выразится. Может быть, окажется реальной угроза разлаживания «биологических часов» и возникновения соответствующих серьезных расстройств психофизиологических функций. Тогда придется изыскивать пути и средства глубокого вмешательства в самые интимные внутриорганизменные процессы с целью искусственного их регулирования в нужном направлении, несмотря на неблагоприятную ситуацию. А может быть подобного разлаживания не произойдет, поскольку в процессе эволюции земной жизни выработались стойкие ритмы биохимических реакций, которые смогут в той или иной мере «справиться» с нарушениями ритмики в электрофизиологической области. Тогда дело может ограничиться лишь частными сдвигами в работе «биологических часов», сравнительно легко преодолимыми. B конечном итоге, как бы там ни было, ныне становится все более ясным, что обстоятельное изучение воздействия геомагнитного поля и его изменений, а также влияния амагнитной среды на человеческий организм (и на отражение человеком внешнего мира) включается логикой развития науки в повестку дня.
В процессе эволюционного развития у растений и животных выработались физиологические приспособления к периодическим геофизическим и метеорологическим изменениям, связанным с вращением Земли вокруг своей оси и вокруг Солнца (к наступлению светлого периода суток и темноты, повышению температуры и увеличению космической радиации в дневное время, изменению влажности и барометрического давления воздуха в ночное время, смене времен года и т.д.). Одним из наиболее характерных таких приспособлений является суточный ритм сна и бодрствования. При этом обнаруживается снижение температуры тела, пульса и дыхания, обменных процессов и других физиологических функций организма ночью и повышение их днем.
Даже такие явления, как рождение и смерть, подчиняются суточной периодичности. По данным Ф. Халберга, наибольшее их количество падает на время между 23–01 часами.
В орбитальном полете смена дня и ночи может быть очень частой. Так, Г. С. Титов в течение суток встретил 17 «космических зорь». В межпланетном же полете, который может продолжаться многие месяцы и даже годы, вообще не будет наблюдаться столь привычной для жизни на Земле суточной (и сезонной) периодики. Наконец, при высадке на то или другое небесное тело чередование дня и ночи также окажется существенно отличным от земного (на Луне, например, сутки длятся почти
месяц по земному счету). С другой стороны, космонавтам придется нести полетную вахту, вести научные исследования, поддерживать связь с Землей и т.д., для чего нужна определенная организация труда и отдыха во времени. В связи со всем этим
возникают проблемы влияния нарушений привычной земной рит мики на психофизиологические функции человека и создания нового оптимального ритма жизнедеятельности на межпланетном космическом корабле.
В 1729 г. астрономом де Мераном, которого особенно интересовало вращение Земли вокруг своей оси, было сделано открытие. Он обнаружил, что у растений, выдерживаемых в темноте и при постоянной температуре, наблюдается такая же периодичность движения листьев, как и у растений, выдерживаемых в условиях чередования света и темноты. Эксперименты подобного рода были продолжены в последующие годы над совершенно различными организмами — от одноклеточных до человека. В результате удалось установить, что даже простейшие живые существа, помещенные в условия постоянного освещения (или темноты), сохраняют ритм колебаний активности и покоя, роста, деления и т.д., приближающийся к 24-часовому циклу. Ритмы с таким периодом Ф. Халберг назвал «циркадными» (от латинских слов: «circo»-около и «dies»-день).
Так, серия опытов была поставлена с белкой-летягой, ведущей ночной образ жизни. Животных помещали в клетку с беличьим колесом, снабженным устройством для записи числа оборотов, и держали в полной темноте несколько месяцев. Графики активности летяг, полученные с помощью колеса, со всей очевидностью показали, что белки оживлялись каждый вечер. Беготня в колесе начиналась всякий раз через один и тот же промежуток времени, примерно равный суткам.
В серии экспериментов на мышах было установлено, что у шести поколений этих животных, непрерывно выдерживаемых при свете, сохраняется одна и та же спонтанная частота колебаний физиологических функций (двигательной активности, фаз сна и бодрствования и др.), приближающаяся к циркадному ритму. Небезынтересно сообщение Бюнинга о циркадных колебаниях, которые сохранялись в изолированной петле кишечника хомяка, помещенной в физиологический раствор. Имеются также данные о циркадной периодичности клеточного деления в тканевых культурах млекопитающих.
Таким образом, по современным научным представлениям, у всех видов растений и животных, помещенных в так называемые постоянные условия, проявляется физиологическая ритмичность циркадного типа. С этим фактором и связана идея о существовании в организмах «биологических часов», от которых зависит регулирование физиологических процессов.
В основе регуляции самих циркадных ритмов большей части одноклеточных организмов и растений лежат, очевидно, внутриклеточные биохимические процессы. Их ритмичность выработалась в многомиллионнолетнем приспособлении к суточной периодичности дня и ночи на нашей планете. Здесь мы хотели бы лишь подчеркнуть, что у растений нет центральных механизмов, которые бы управляли всеми циркадными ритмами.
Немецкий ученый Г. Клюк в специальных экспериментах показал, что у червей, членистоногих и других беспозвоночных регуляция суточной ритмики физиологических функций осуществляется нервной системой, в частности подглоточным ганглием.
Наиболее четкие данные о центре, управляющем ритмом двигательной активности в течение суток, были получены английской исследовательницей Жанет Харкер в опытах с тараканами — типичными ночными насекомыми. Оказалось, что у этих насекомых роль главных «биологических часов» выполняет подглоточный ганглий, выделяющий определенные химические вещества. Так, у тараканов, ранее находившихся в условиях непрерывного освещения и потерявших заметно выраженный ритм двигательной активности, удалялся собственный подглоточный нервный узел и заменялся другим ганглием, взятым от ритмически активной особи. Через несколько дней активность оперированного насекомого становилась четко ритмичной, причем этот ритм соответствовал ритму таракана-донора.
Особенно замысловаты физиологические механизмы циркадного ритма у высших позвоночных животных. Здесь обнаруживаются и более простые регуляторы, имеющие тесную связь с обменом веществ, и учет более сложных временных отношений, которые координируются корой больших полушарий. При этом суточная периодичности сна и бодрствования сохраняется у животных и после удаления коры. Точно так же остается и суточная ритмика колебаний температуры тела, обменных процессов, частоты пульса, кровяного давления, дыхания и других вегетативных функций. Отсюда следует, что поддержание циркадных ритмов относится к сфере безусловнорефлекторной деятельности, которая более устойчива к случайным колебаниям внешней среды, а центры циркадной регуляции находятся в подкорковых образованиях и в стволовой части головного мозга.
Из обыденной жизни известно, что некоторые люди обладают удивительной способностью чувствовать время. Они точно и безошибочно определяют час дня, хорошо различают временные промежутки, длительность пауз и т. д. Поскольку космонавты в межпланетном полете будут находиться, как правило, в постоянных
условиях, но без привычных геофизических воздействий, возникает вопрос, в какой степени человек сможет оценивать циркадную ритмику физиологических процессов, т.е. пользоваться «биологическими часами» в такой ситуации.
В отмеченном плане представляют большой научный интерес наблюдения за членами экспедиций, находящихся в Арктике, где такой фактор, как восход и заход солнца в течение суток, отсутствует. Из результатов, полученных М. Лоббаном, который проводил исследования на Шпицбергене в период полярного дня, явствует, что непрерывное двухмесячное дневное освещение не действует заметным образом на циркадную ритмику физиологических процессов людей, прибывших из средних широт.
Для имитации межпланетного полета используются, как известно, сурдокамеры. Они позволяют не только устранять некоторые геофизические факторы (смену светлого периода суток ночью, природный шум, перепады температуры и влажности воздуха, колебания радиации и т.д.), но и в какой-то мере исключать влияние социального окружения.
В сурдокамере Ф. Д. Горбов провел следующий опыт. Испытуемый знал о продолжительности эксперимента (7 суток), но у него не было часов для контроля за временем и отсутствовал распорядок дня. По инструкции он мог, когда хотел, ложиться спать, есть, вести записи в дневнике, заниматься гимнастикой и т.п. Через несколько суток испытуемый дезориентировался во времени, что было видно из его отчетов по радиопереговорному устройству. По представлению обследуемого время текло медленнее, чем на самом деле. Так, он подготовился к выходу из сурдокамеры на 14 час. раньше намеченного срока.
А. Ашофф в своем опыте помещал группу испытуемых в специально оборудованный бункер, находящийся глубоко под землей, что исключало проникновение звуков. Обследуемые лица сами готовили пищу и были полностью предоставлены самим себе.
Они гасили свет перед сном и включали его при пробуждении. За испытуемыми с помощью специальной аппаратуры велось постоянное наблюдение с регистрацией физиологических функций. За 18 суток обследуемые «отстали» от астрономического времени на 32,5 часа, т.е. их сутки состояли не из 24, а почти из 26 часов. В этом ритме к концу эксперимента у испытуемых и наблюдалось колебание всех физиологических функций.
Интересны также опыты французских спелеологов, которые вместо сурдокамеры использовали глубокие пещеры. Так, в 1962 г. Мишель Сиффр провел в одной из пещер 2 месяца. Из его отчета явствует, что в условиях одиночества и отсутствия связи с внешним миром для экспериментатора вскоре «распалась связь времени…»
Через 1000 час. (более 40 суток) ему казалось, что прошло всего лишь 25 суток. А когда необычный эксперимент закончился и друзья пришли за Сиффром, он заявил: «Если бы я знал, что конец так близок, я бы давно съел оставшиеся помидоры и фрукты».
3 года спустя опыт повторили еще двое ученых — Антуан Сонни и женщина — спелеолог Жози Лорез. Шесть месяцев провел под землей молодой французский спелеолог Жан-Пьер Мерете. Однако материалов, относящихся к восприятию времени и суточной ритмике в этих экспериментах, нам найти не удалось.
В 1967 г. восьмерка венгерских исследователей провела под землей в одной из пещер Будайских гор ровно месяц. Члены экспедиции не имели ни часов, ни радиоприемника. И когда они получили по телефону приказ подняться на поверхность, то оказалось, что подсчеты времени, произведенные в пещере, на четверо суток отстали от действительности. При этом «биологические часы» первые 10 дней у всех членов экспедиции вели себя синхронно, а потом во временной ориентации начались расхождения.
Из сказанного можно заключить, что хотя физиологические процессы человека при постоянных условиях продолжают сохранять какое-то время циркадную ритмичность, однако ориентация без «времядатчиков» становится нереальной.
Учитывая сказанное выше о циркадных ритмах психофизиологических процессов, казалось бы было целесообразным в длительных межпланетных полетах сохранить для членов экипажа привычную ритмику земных суток. Но, по всей вероятности, это будет невозможно.
Мы уже говорили, что в длительном полете люди при управлении межпланетным кораблем будут включены в систему «человек — автомат». Главной функцией оператора в этой системе при ее нормальной работе является наблюдение за показаниями приборов. Деятельность космонавта, однако, будет отличаться от обычной операторской деятельности, скажем, на пульте управления современной электростанцией. Оператор космического корабля должен выполнять параллельно несколько управленческих функций, которые могут быть связаны с весьма далекими друг от друга областями науки и техники. Например, контроль за работой аппаратуры замкнутого или полузамкнутого экологического цикла требует биологических знаний, а контроль за режимом и траекторией полета — астрономических и навигационных знаний. В общем виде функции оператора-космонавта будут в основном заключаться в компенсирующем слежении по многим индикаторам, операциях контроля за величинами регулируемых параметров объекта, математической и логической обработке поступающей от приборов и сигнализаторов информации, обобщении результатов контроля я сравнении их с программой, выработке решения по управлению объектом и реализации этого решения.
Необходимо подчеркнуть, что в длительном космическом полете отнюдь не исключена возможность выхода из строя тех или иных устройств и систем, возможность возникновения непредвиденных осложнений, которые потребуют от космонавта экстренного перехода от наблюдения к действиям. Практически вообще немыслимо предусмотреть все варианты отклонений в режиме работы механизмов, все неисправности и аварийные ситуации. Только разумными мероприятиями человека, обладающего большими знаниями и опытом, можно своевременно справиться с неожиданностями и случайностями. Поэтому космонавт, несущий вахту, всегда должен будет находиться в состоянии высокой готовности к действию. От степени такой готовности прямо зависит эффективность вмешательства человека в ход событий. Говоря языком кибернетики, оператор-космопавт должен выполнять роль «ждущей схемы». Именно готовность к действию является важным фактором надежности человека как звена в системе «человек-автомат», обусловливает насущную необходимость несения вахты членами экипажа межпланетного корабля.
Здесь сразу же возникает вопрос: как долго космонавт, несущий вахту, может находиться в состоянии достаточной готовности л действию, или другими словами, когда у него разовьется утомление, которое может отразиться на качестве операторской деятельности? В настоящее время с полной определенностью ответить на этот вопрос невозможно. Однако, используя данные, накопленные физиологией и психологией труда, ученые уже сейчас ищут пути к определению оптимального времени несения вахты в космическом полете.
Характеризуя трудовой процесс, К. Маркс писал: «Кроме напряжения тех органов, которыми выполняется труд, во все время труда необходима целесообразная воля, выражающаяся во внимании, и притом необходима тем более, чем меньше труд увлекает рабочего своим содержанием и способом исполнения…» (Капитал, т. I, стр. 185). Из различных качеств внимания к наиболее профессионально значимым относятся: интенсивность (точнее, сосредоточенность), устойчивость, быстрота переключения и широта распределения. Само оно «обусловлено такой организацией деятельности, при которой определенные восприятия, мысли или чувства нами сознаются отчетливо,— в то время как другие отходят на второй план или вовсе сознательно не воспринимаются» (К. К. Платонов, 1962, стр. 41).
Профессии оператора в автоматических системах свойственна именно высокая интенсивность внимания почти на всем протяжении несения вахты. Двигательные акты имеют для этой профессии гораздо меньшее значение. Но еще К. Маркс отмечал, что «непрерывная монотонность работы ослабляет напряженность внимания и подъем энергии, так как лишает рабочего того отдыха и возбуждения, которые создаются самым фактом перемены деятельности» (Капитал, т. I, стр. 348). Эта мысль нашла подтверждение в специально проведенных экспериментах и при исследовании протекания трудовых процессов у лиц так называемых наблюдательных профессий.
Например, по В. В. Суворовой, Ю. В. Идашкину и С. С. Гаджиеву, опыт дежурств на современных автоматизированных электростанциях показывает, что даже такие на первый взгляд легкие дежурства, в течение которых персонал не производил никаких операций, а был занят исключительно надзором и ожиданием каких-либо аварийных нарушений, приводят к исключительно сильному нервному напряжению. По окончании смены операторы оказываются не в состоянии осуществлять какую-либо умственную деятельность, плохо спят, у них резко повышается раздражительность и т.д. Многочисленные данные советских и зарубежных ученых свидетельствуют о том, что через 5–6 час. наблюдения даже при нормальной работе автоматических устройств бдительность человека постепенно снижается. Соответственно уменьшается его надежность как звена в системе «человек — автомат». Исследователями также отмечается, что на процесс утомления большое влияние оказывают отрицательные эмоции.
Если учесть, что на космонавта будет действовать ряд неблагоприятных факторов (в том числе и большая продолжительность полета), то, видимо, утомление на космической вахте будет развиваться раньше, чем через 5–6 часов. Следовательно, наиболее оптимальным временем работы в этих условиях явится срок, не превышающий четырех часов (с обязательным предварительным отдыхом и сном). Такой вывод в какой-то мере подтверждается практикой длительных автономных плаваний подводных лодок, когда моряки несут каждый четырехчасовую вахту.
В первых межпланетных полетах число членов экипажа будет, надо полагать, невелико. Поэтому организовать несение четырехчасовой вахты в течение земных суток будет трудно (если вообще возможно). Выход из такой ситуации мыслим по линии изменения продолжительности суток, изменения ритма жизнедеятельности людей на межпланетном корабле.
Обратимся прежде всего к фактам, полученным гигиеной труда и связанным с влиянием работы при различных распорядках дня на психофизиологические процессы. В. П. Соловьева и Г. М. Гамбашидзе провели наблюдения за работниками метрополитена, которые длительное время (от 6 до 22 лет) выходили только в ночную смену. Исследовались температура тела, частота пульса, кровяное давление, устойчивость внимания и другие психофизиологические явления. В результате выяснилось, что, несмотря на многолетний стаж работы исключительно в ночное время, почти у всех обследуемых не произошло перестройки суточного ритма физиологических функций. Изменения последних носили синусоидальный характер с максимумом днем (в 12 — 16 час.), т.е. когда наблюдаемые отдыхали, и минимумом ночью (в 02 — 04 часа), т.е. когда наблюдаемые работали. Иными словами, их кривые в основном совпадали с известными классическими кривыми, подученными у людей с обычным режимом сна и бодрствования.
Для выявления психофизиологических сдвигов под влиянием восьмичасовой работы в ночную, вечернюю и дневную смены у линотипистов Г. П. Волхина и Р. И. Крюк изучали состояние их внимания по методу корректурных таблиц. Определялись также пороговая чувствительность слуха и другие функции организма. Оказалось, что наиболее низкие данные по перечисленным методикам были получены в ночную смену, наиболее высокие — в дневную, а функциональные сдвиги в вечернюю смену занимали промежуточное положение. Короче говоря, и в этом случае не происходило перестройки психофизиологических функций из-за ночной работы.
Э. И. Брантом и О. И. Марголиной были обследованы бригады локомотивов и кондукторские бригады, сопровождающие товарные поезда. У людей этого профиля сутки раздроблены последовательным чередованием сна и работы, причем без строгого графика (или по разным графикам). Иными словами, здесь налицо типичный пример нарушения суточного стереотипа. Наблюдения показали, что в течение ряда лет такого необычного чередования работы и отдыха организм приспосабливается к отсутствию постоянного режима. Это приспособление выражается в способности рабочих локомотивных и кондукторских бригад быстро засыпать в любое время суток, даже тогда, когда дневному сну при отдыхе на станции «оборота» предшествовал нормальный ночной сон дома. Однако и такая ситуация не изменяет обычных кривых суточных колебаний физиологических функций.
Как видим, геофизические факторы (дневной свет и т.д.), а также социальное окружение (ритм жизни семьи, работа государственных, увеселительных и других учреждений) имеют для человека гораздо большее значение, чем собственный ритм работы, отдыха, приема пищи и т.п.
Очень важную роль в осуществлении физиологических функций играет мышление, которое позволяет определять отношение к текущему моменту суток (окажем, в освещенном метрополитене ночью).
Здесь уместно напомнить о результатах наблюдений за лицами, совершившими перелеты в другие районы Земли со сдвигом времени в 6 — 12 час. Под влиянием смещенного ритма геофизических факторов и жизни окружающих людей у этих лиц в течение нескольких дней (обычно не более 15) происходит перестройка всех физиологических процессов применительно к новым условиям существования. Между тем при измененном режиме суток, но в привычной среде такая перестройка, как мы уже видели, не наблюдается даже в течение многих лет.
Большое количество экспериментов свидетельствует о том, что на перестройку ритма физиологических функций растений и животных основное воздействие оказывают свет и температура. Хотя живые организмы и способны поддерживать циркадную ритмику, это вовсе не означает неизбежность сохранения постоянной ее частоты при любых условиях жизни. Ведь организм — «открытая система», он все время находится под влиянием окружающей среды и приспосабливается к ее изменениям. В частности, такие факторы, как свет и температурные воздействия, служат в условиях Земли своеобразными датчиками времени. Они являются как бы сигналами для синхронизации циркадного ритма физиологических функций с астрономическим временем.
Еще И. П. Павлов показал, что чем выше организовано животное, тем быстрее и лучше оно приспосабливается к изменяющимся условиям внешней среды. Такое приспособление совершается посредством образования временных связей в коре головного мозга. Именно с помощью механизма условных рефлексов происходит подлаживание к изменяющейся ситуации также безусловнорефлекторной деятельности, к которой относится и циркадная ритмика физиологических функций. «Самая общая характеристика живого существа, — писал Павлов, — состоит в том, что живое существо отвечает своей определенной специфической деятельностью не только на те внешние раздражения, связь с которыми существует готовой со дня рождения, но и на многие другие раздражения, связь с которыми развивается в течение индивидуального существования, иначе говоря, что живое существо обладает способностью приспосабливаться» (1951–1952, т. 3, стр. 77–78).
Весьма ценны для изучения приспособления физиологических функций высших животных к измененным ритмам жизнедеятельности опыты О. П. Щербаковой, проведенные на обезьянах. Эксперименты осуществлялись в течение года в специально оборудованном домике с искусственным освещением. Изучались физиологические функции при двухфазном, укороченном, удлиненном и других суточных режимах. Оказалось, например, что при установлении двухфазного суточного ритма у большинства обезьян уже на третий день возникает соответствующий ритм двигательной активности, а затем, на 6 — 13-й день, образуется двухфазность в температурной кривой, в частоте пульса, дыхания, в динамике других физиологических процессов.
С развитием космической техники в Советском Союзе и за рубежом были начаты эксперименты по изучению различных режимов суточной деятельности в условиях, имитирующих космический полет. У нас пионером в этой области явился коллектив ученых, возглавленный Ф. Д. Горбовым.
Нами (0. Н. Кузнецов, В. И. Лебедев, А. Н. Липов) были проведены опыты в условиях сурдокамеры по изучению «перевернутого» (бодрствование в ночное время, а сон — в дневное), дробного и других режимов. Исследование осуществлялось при полном одиночестве, изоляции от внешних световых и звуковых раздражителей, отсутствии двухсторонней речевой связи. В эксперименте участвовали мужчины в возрасте от 26 до 38 лет, прошедшие полное клиническое обследование. У испытуемых был строго регламентированный распорядок дня, который включал выполнение операторской деятельности, активный отдых и сон. При двухфазном ритме обследуемые занимались всем этим дважды в сутки, при трехфазном — трижды.
В результате экспериментов выяснилось, что чем больше отклоняется режим жизнедеятельности человека от привычного, тем тяжелее это переносится. Особенно трудным оказался трехфазный ритм. Вообще при смене обычного режима новым у испытуемых на вторые — пятые сутки восстанавливается исходный уровень работоспособности и они начинают засыпать в отведенные новым распорядком часы. Но соответственная перестройка вегетативных функций (пульс, дыхание, температура тела, обменные процессы и др.) наступает лишь на 8 — 15-й день и не всегда полностью заканчивается даже к концу пятнадцатых суток. Из всех измененных режимов, изучавшихся Горбовым и нами, наиболее приемлем, по-видимому, дробный с двухфазным сном. Однако у всех испытуемых при этом ритме субъективно не отмечалось законченности каждого цикла. Они продолжали отсчитывать время обычными земными сутками. По всей вероятности, и на межпланетном корабле будет бортовое и московское время. В какой-то степени с подобной системой отсчета сталкиваются многие люди на нашей планете и ныне. Например, обитатели Владивостока, живя по местному (поясному) времени, при необходимости соотносят его с московским временем.
В целом, если для животных при перестройке суточного режима основное значение имеют физические воздействия (свет, температура и др.), то для человека, как справедливо подчеркивает 0. Н. Кузнецов, существенной оказывается психическая деятельность, волевая направленность на выполнение распорядка дня, умение быстро переорганизоваться в соответствии с изменением ситуации. Нами было установлено, что приспособление физиологических функций к новому ритму особенно затруднялось у тех людей, которые постоянно старались представить себе, что происходит в текущий момент суток вне камеры.
Надо полагать, что при разработке распорядка дня для каждого конкретного межпланетного полета будут учитываться число членов экипажа, объем работы, наличие помещений для отдыха и т.д. Не исключена возможность, что ритм космических суток будет выглядеть примерно так: 4 часа операторской деятельности, 4 часа активного отдыха и 4 часа сна. В период активного отдыха космонавты не ограничатся физическими тренировками. Для ликвидации утомления необходима рационально организованная смена вида деятельности. Поэтому, вероятно, часть времени после несения вахты у космонавтов будет занята научными экспериментами, обобщением полученных результатов и т.д.
Большое значение для восстановления работоспособности имеет смена эмоционального состояния. И. М. Сеченов указывал, что важными факторами здесь могут быть оживление настроения, музыка и т. п. Космонавты, безусловно, будут просматривать специально подобранные цветные фильмы, слушать музыкальные произведения, записанные на пленку, читать книги. Весьма существенную роль сыграют радио и сверхдальнее телевидение. С помощью этих средств космонавты смогут постоянно следить за жизнью на Земле, «бывать» в театрах, кино, на стадионах, общаться с родственниками и друзьями.
Важно, чтобы все члены экипажа (или, по крайней мере, большинство) прием пищи осуществляли одновременно, и чтобы их активный отдых протекал, как правило, не в одиночестве. Внутриколлективные контакты не только в процессе работы, но и в свободное время будут благотворно сказываться на тонусе нервной системы, на настроении космонавтов.
Напряженная работа головного мозга в часы бодрствования, его постоянное реагирование на бесчисленные раздражители внешней среды, как известно, приводят к истощению многие клетки коры головного мозга. Восстановление их работоспособности происходит в период сна. Вот почему на межпланетном корабле необходимо будет создать условия для полноценного сна космонавтов.
Опыт восьмисуточного полета американского корабля «Джеминай-5» показал, что спать по очереди в рабочем помещении весьма трудно. Космонавты Г. Купер и Ч. Кондрад, осуществлявшие такой распорядок она, жаловались на то, что малейший шум, даже перелистывание бортового журнала, будил их, поскольку в кабине было вообще-то очень тихо. Отсюда необходимость специального помещения-спальни на межпланетном корабле. Если все же в него будут проникать мешающие сну звуки, то в таком случае мыслимо создание «звукового подпора», т.е. генерации монотонного шума или шума, напоминающего морской прибой, дождь с ветром и т. д. Этот шум заглушит нежелательные звуковые явления и поможет засыпанию. Но дело не только в специальном помещении и звуковой изоляции. Космонавты должны выработать в себе способность при необходимости быстро засыпать. Такая способность была обнаружена во время сурдокамерных испытаний, например, у Ю. А. Гагарина. Он показал умение расслабляться даже в короткие паузы, отведенные для отдыха, моментально засыпать и самостоятельно пробуждаться в заданный срок.
Как выявили наши исследования, четырехчасовой сон после 8 часов бодрствования позволяет в условиях сурдокамеры восстановить работоспособность человека полностью. Вместе с тем при организации распорядка на космическом корабле важно будет установить для каждого члена экипажа строго постоянные часы вахт, отдыха и сна. Несомненно, что дальнейшие эксперименты на Земле, а также опыт орбитальных полетов позволят уточнить и отработать оптимальные ритмы космических суток.
ЗАКЛЮЧЕНИЕ
К. Э. Циолковский еще на заре воздухоплавания писал: «Верю в блестящее будущее человечества, верю, что человечество не только наследует Землю, но и преобразует мир планет. Отсюда, из сферы Солнца, начнется расселение человечества по всей Вселенной. В этом я глубоко убежден. Это удел земного человека. Он должен преобразовать многие планетарные системы».
Научные предвидения основоположника космонавтики начинают сбываться в наши дни. Человечество готовится к преодолению все новых и новых рубежей в великом деле освоения космоса. Расширяется фронт возникающих здесь сложнейших научно-технических проблем, над решением которых трудятся тысячи и тысячи ученых, конструкторов, инженеров, техников и рабочих.
Одной из таких проблем является выяснение возможностей человека адекватно отражать пространство и время вне Земли. Мы попытались обобщить научный материал, относящийся лишь к некоторым сторонам этой проблемы. Здесь предстоит еще огромная исследовательская работа. Особняком стоят почти неизученные вопросы восприятия пространства и времени при полетах с околосветовыми скоростями. Но нет сомнения в том, что какие бы трудности ни ожидали людей, участвующих в штурме космоса, все препятствия будут преодолены, и космическое будущее человечества станет фактом.
@темы: Наука